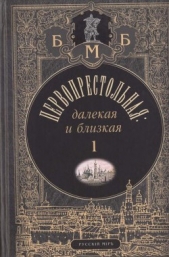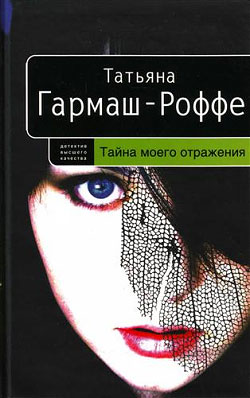Москва и москвичи
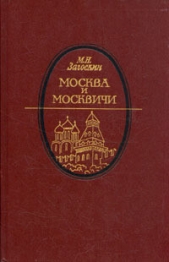
Москва и москвичи читать книгу онлайн
Записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые М. Н. Загоскиным
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Графиня Дольчини! — вскричал один высокий и статный мужчина, закутанный в широкий плащ. — Стойте, товарищи!.. Прочь, говорят вам!»
Разбойники, которые принялись было обирать графиню, выпустили ее из рук. Фра-Диаволо — это был он — подошел к ней и сказал:
«Я очень рад, экселенца, что с вами не случилось никакого несчастия. Извольте ехать — вы свободны! Что ж касается до тебя, господин уголовный судья, — продолжал он, устремив сверкающий взор на синьора Ташинарди, — так тебе торопиться нечего; мы еще с тобой поговорим, проклятый убийца моей доброй Лауреты!..»
Синьор Ташинарди хотел что-то сказать, но Фра-Диаволо не дал выговорить ему ни слова.
«Молчи, кровопийца! — сказал он. — Теперь моя очередь быть твоим судьею!.. Извольте ехать, графиня!»
«Синьор Фра-Диаволо! — вскричала графиня. — Он брат мой!»
«Ваш брат? — повторил разбойник. — Этот злодей?…»
«Да, он брат мой!»
Фра-Диаволо задумался; несколько минут продолжалось это ужасное молчание.
«Графиня, — промолвил наконец разбойник, — ваш кучер и слуга убиты, прикажите этому палачу, которого вы называете своим братом, сесть на козлы и везти вас в Понте-Корво: да посоветуйте ему сходить на поклонение к Лоретской божией матери за то, что ему не пришлось на этот раз умирать без покаяния. Прощайте, графиня! — примолвил он, когда синьор Ташинарди, взобравшись на козлы, погнал без ума лошадей. — Кажется, теперь я вполне расквитался с вами».
— Вот, Максим Степанович, — сказала княгиня Варвара Алексеевна, окончив свой рассказ, — видите ли, что и разбойники умеют быть благодарными?
— Вижу, княгиня, — отвечал я, — вижу!
— Много ли вы найдете честных людей, которые поступили бы так великодушно, как этот Фра-Диаволо? Ну, что вы о нем скажете?
— Я скажу, княгиня, что в нем очень много театрального. Прекрасный разбойник!.. А позвольте спросить: вам рассказывала об этом сама графиня Дольчини?
— Нет, я слышала это от хозяина гостиницы, в которой останавливалась, проезжая Терачиио.
«Вот, — подумал я, — иностранцы-то каковы! У них не по-нашему; трактирщики — настоящие поэты; разбойники такие приличные — целуют у графинь ручки!.. Нет, где нам до них!»
Меж тем разговор переменился: стали говорить об италианской музыке. Вот уж тут я сделался совершенно лишним человеком. Я имею несчастие не любить италианской музыки и глупость признаваться в этом публично, конечно, глупость, потому что я сумел бы не хуже всякого прикинуться самым отчаянным дилетанте, то есть кричать: «Браво, браво, брависсимо!» — и корчить превосторженные и преудивительные рожи. Что делать, видно, я так уж создан; и мог бы, кажется, да ни за что не стану удерживаться от зевоты, когда мне хочется зевать. Сначала я слушал довольно спокойно умные речи хозяйки: она только что жалела о тех, которые не понимают всю прелесть италианской музыки; но когда господин поэт заговорил, что этих негодяев нельзя даже называть и людьми, что они бездушные болваны, деревяшки, не способные ни к чему прекрасному, то, признаюсь, я не вытерпел: схватил мою шапку, раскланялся и отправился домой. Я сказал вам «мою шапку», потому что тогда еще не в одних деревнях, а и в столицах носили по зимам теплые собольи и бобровые шапки. Теперь эта ни с чем не сообразная и глупая мода прошла. Когда я сел в мои сани, мне вздумалось погулять. На дворе было светло, как днем; ночь была морозная, лунная, а вы знаете, господа, как весело прокатиться в светлую лунную ночь по нашей матушке Москве белокаменной и посмотреть, как эта русская красавица засыпает понемногу своим богатырским сном. Я приказал моему Ивану ехать за Москву-реку, чтоб посмотреть на Кремль. Покатавшись с полчаса, я отправился домой, то есть на Знаменку. Когда переехал Каменный мост и поравнялся с Кривым переулком, который выходит на Неглинную, мне послышались громкие голоса; кричали: «Караул! Держи, держи!» — и в ту же самую минуту какой-то запыхавшийся человек вскочил на запятки моих саней.
— Что ты? — вскричал я. — Пошел, пошел!
— Батюшка, спасите, — прошептал этот человек, с трудом переводя дыхание, — за мной гонятся!
В самом деле, из переулка начали выбегать люди.
— Гонятся? — повторил я. — Так поэтому ты вор?
— Батюшка, я бедный человек, жена, дети; спасите, бога ради!
— Вот он! Вот он! — раздались в близком расстоянии голоса. — Вот стоит за саньми!.. Держите его, держите!.. Вор!..
Тут пришел мне в голову рассказ княгини Линской. «Дай, спасу и я также этого бедного вора, — подумал я. — Почему знать, может быть, он станет обо мне век бога молить? Уж если этот несчастный отец семейства понадеялся на мое великодушие, так не грешно ли мне выдать его руками?»
— Пошел! — сказал я.
Иван ударил по лошадям, и не прошло полминуты, как мы, поворотив направо по Ленивке, выехали на Знаменку. Когда мы поравнялись с переулком, который идет позади Пашкова дома, вор соскочил с запяток, сорвал у меня с головы бобровую шапку и кинулся бежать. Вот и я также закричал: «Караул! Держи, держи!», но держать было некому да и некого: этот бедный отец семейства шмыгнул на какой-то двор — и поминай как звали!»
Максим Степанович замолчал.
Онегина. Вот уж этого я никак не ожидала! Неужели тем и кончилось?
Засекин. Нет, Наталья Кирилловна, этим не кончилось. Я простудил голову, занемог и целых два месяца был болен.
Лаврентий Алексеевич. Ништо тебе, Максим Степанович. Кабы ты помнил русскую пословицу: «Вора помиловать — доброго погубить», так тебе бы не пришлось покупать новой шапки.
Засекин. Что ж делать, Лаврентий Алексеевич, я и сам после догадался, что больно сплоховал. Ведь княгиня рассказывала мне о разбойнике, а это что? Так, шишимора, уличный воришка!
Кучумов. И, что вы, батюшка! Да, по-моему, разбойник во сто раз хуже всякого вора.
Лаврентий Алексеевич. Эх, любезный, да разве ты не видишь, что Максим Степанович изволит балагурить?
Кудринский. Я не знаю, шутит он или нет; но и мне также кажется, что отъявленный разбойник гораздо способнее ко всякому великодушному поступку, чем какой-нибудь мелочной, ничтожный мошенник.
Княжна Задольская. Да что это, господа, вам за охота говорить о разбойниках? Они надоели мне и в романах госпожи Радклиф. Ну, скажите сами, что в них интересного и можно ли принимать участие в судьбе какого-нибудь убийцы, разбойник ли он или нет?…
Онегин. Нет, княжна, не говорите! Разбойник и убийца — две вещи совершенно различные. Убийцы бывают всякого рода. Например, убийца от любви…
Княжна Задольская. Ох, и это ужасно!
Кудринский. А преступление, сделанное в минуту бешенства, когда оскорбленный не помнит самого себя?
Онегин. А обиженный человек, который убьет своего противника на дуэли?
Кучумов. Или как мой Гриша, который однажды на кулачном бою одного убил, а трех изувечил?
Онегин. Или как покойный мой брат, который на охоте застрелил нечаянно своего приятеля?
Засекин. Или доктор, который даст невпопад лекарство? Ведь умирать-то все равно — от пули или от пилюль!
Лаврентий Алексеевич. Слышишь, Богдан Фомич? Ну, что ты на это скажешь?
Бирман. Да что, Лаврентий Алексеевич: на нас, бедных врачей, всегда нападают. А виноваты ли мы, что люди не бессмертны? Ведь мы не боги, и кому определено умереть, того не вылечишь.
Кучумов. Правда, правда! Всякому есть предел, коего не прейдеши.
Засекин. Конечно, на иного господь пошлет смертельную болезнь, на другого — искусного медика…
Бирман. Смейтесь, Максим Степанович, смейтесь! Теперь вы, слава богу, здоровы, а случись вам занемочь, так без нашего брата не обойдетесь. Кто говорит, и мы также иногда в жмурки играем и ходим ощупью, а все-таки кой-что знаем, чему-нибудь да учились…
Лаврентий Алексеевич. Кстати, любезный! Мне давно хотелось у тебя спросить, что это значит: на моем веку я много знавал докторов — русских очень мало, французов также; куда ни посмотришь, все доктора — немцы. Что ж это, у вас в немецкой-то земле всех, что ль, этой науке учат?