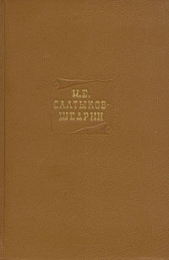Губернские очерки

Губернские очерки читать книгу онлайн
«Губернские очерки» – одно из первых произведений писателя, изображающее жизнь и нравы русского провинциального дворянства и чиновничества 50-х гг. XIX века, где он обличает жестокость, взяточничество, лицемерие, угодничество, царящие в чиновничьем мире.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Здравствуйте, батюшка Андрей Ларивоныч, – сказала Мавра Кузьмовна, когда мы остались одни, кланяясь Ларивонову до земли, – видно, не на радость свиделись!
И крупные слезы полились ручьями из глаз ее.
– Здравствуйте, сударыня Мавра Кузьмовна! – отвечал он тихим, но твердым голосом, – много мы, видно, с вами пожили; пора и на покой, в лоно предвечного Христа спаса нашего, иже первый подъял смерть за человеки.
– Прости и ты мне, Варвара Михайловна! много я пред тобой согрешила! – продолжала Кузьмовна, склоняясь перед Тебеньковой, – ну, видно, нечего делать, растопило у меня сердце… ваше благородие! записывай уж ин поскорей.
С своей стороны Тебенькова тоже повалилась в ноги к Мавре Кузьмовне, и за глухими ее рыданиями нельзя было даже разобрать ее слов.
– Позовите сюда Тебенькова, – сказал я, чтоб кончить поскорее эту сцену, которая тяготила меня.
Вошел Тебеньков. То был высокий и с виду очень почтенный старик с окладистою бородой и суровым выражением в лице. При виде его Варвара быстро поднялась и задрожала всем телом.
– А! ну, здравствуй, доченька! давно ли своих родителей продавать научилась?! – сказал Тебеньков, улыбаясь холодно, но не без горечи, – здравствуй и ты, Кузьмовна; пришли, видно, наши часы… что ж, ваше благородие, если спросить желаете, так спрашивайте, а насчет того, чтобы нашу чувствительность растревожить, так это лишнее будет – так-то-с…
– Нет, ты прости ее, батюшка Михайло Трофимыч, – вступилась Мавра Кузьмовна, – она тоже ведь невольным делом…
– Бог ее простит, матушка, а мы прощать не можем, потому как это божье дело, а не наше…
– Батюшка! – вскрикнула Варвара, почти без чувства падая к ногам его и обнимая их.
Тебеньков задумался и посмотрел на нее; я даже заметил, что в его холодных, суровых глазах блеснул на минуту луч нежности. Но это чувство, осветившее внезапно его существо, столь же внезапно уступило место прежней суровости.
– Нет, доченька, – сказал он, вздохнувши и махнув рукой, – нам теперича об эвтом разговаривать нечего; живи с богом да не поминай нас лихом, потому как мы здешнего света уж не жильцы… что ж, ваше благородие, спрашивать, что ли, будете или прямиком на казенную фатеру прикажете?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И тут началось у меня следствие…
ПЕРВЫЙ ШАГ
Передо мною стоял молодой человек лет двадцати пяти, в потасканном вицмундире. Физиономия его не представляла ничего особенно замечательного; это была одна из тех тусклых, преждевременно пораженных геморроем физиономий, какие довольно часто встречаются в чиновническом мире. Взор его был мутен и как-то болезненно сосредоточен, что не мешало, впрочем, мне, как наблюдателю, подметить в нем что-то вроде робкого поползновения на мольбу, но такую мольбу, которая замечается в глазах барана, кротко испускающего дух под ножом мясника. Молодой человек попался, и попался весьма замечательным образом, со всеми онёрами, как выражаются в провинции. Он сочинил фальшивый указ, с целью получить, за неисполнение его, приличное вознаграждение, но не соблюл притом никаких предосторожностей, которые, поставили бы его поступок вне законных преследований и привели его к тихому пристанищу, выражающемуся в официяльной форме словами: «А за неотысканием виновного в сочинении фальшивого указа, обстоятельство сие предать воле божией, а дело кончить и сдать в архив». Напротив того, тут было все, что могло служить к улике преступника: и поличное, и соучастники, и обдуманный план, и свидетели; одним словом, обвиняемый как бы нарочно все таким образом устроил, чтоб отрезать себе всякий путь к спасению.
Положение следователя, вообще говоря, очень тяжелое положение. Разумеется, оно далеко не может сравниваться ни с положением фельдмаршала во время военной кампании, ни даже с положением гарнизонного прапорщика во время осады Севастополя; но личный взгляд следователя может придать всякому мало-мальски важному делу интерес, не изъятый своего рода тревожных ощущений. Бывают, конечно, следователи, которые смотрят на свои обязанности с тем же спокойствием, с каким смотрят на процесс пищеварения, дыхания и тому подобные фаталистические отправления своего организма; но до такого олимпического равнодушия не всякий может дойти. Иногда случается, что в голову нахлынут тысячи самых разнообразных и даже едва ли не противозаконных соображений и решительно мешают вышеозначенному спокойствию. Шевельнется, например, ни с того ни с сего в сердце совесть, взбунтуется следом за нею рассудок, который начнет, целым рядом самых строгих силлогизмов, доказывать, как дважды два – четыре, что будь следователь сам на месте обвиняемого, то… и так далее. Ну, и раскиснешь совсем…
А если следствие предстоит серьезное и запутанное, сколько самых разнородных ощущений теснится в сердце, как тонко делается чутье, как настораживаются все чувства! В воздухе пахнет преступлением; миазмы его не дают дышать свободно; руки осязают преступление; слух беспрестанно оскорбляется нестройными звуками вакханалии преступления. Вам чудится преступление в пище, которую вы вкушаете, и в воде, которую вы пьете. Следователь перестает на время быть человеком и принимает все свойства бесплотного существа: способность улетучиваться, проникать и проникаться и т. Д. И сколько страха, сколько ожиданий борется в одно и то же время в его сердце! Поймаю или не поймаю? спрашивает себя следователь каждую минуту своего существования и видимо истаевает на медленном огне отчаянья и надежды. Если же присовокупить к этому, с одной стороны, ожидаемые впереди почести, начальственную признательность и, главное, репутацию отлично хитрого чиновника, в случае удачного ловления, и, с другой стороны, позор и поношение, репутацию «мямли» и «колпака», в случае ловления неудачного, то без труда сделаются понятными те бурные чувства, которых театром становится сердце мало-мальски самолюбивого следователя.
Что касается до меня лично, то преступление производит на мою душу подавляющее действие. Я вообще человек нрава мягкого и скромного, спокойствие своей души ставлю выше всего и ненавижу, когда какое-нибудь обстоятельство назойливо тревожит мою совесть. То ли дело сидеть себе дома, пообедать в приятном обществе и, закурив отличную сигару, беседовать «разумно» с приятелями о предметах, вызывающих на размышление, – хоть бы о том, как трудны бывают обязанности следователя! Но когда мне, волею или неволею, приходится облечь себя в броню следователя (а это, к истинному моему прискорбию, случается довольно часто), то, сознаюсь откровенно, я делаюсь немного идеалистом. Все эти великолепные соображения об олимпическом равнодушии, о путах, которыми благоразумный следователь обязан окружать обвиняемого, неизвестно куда испаряются, и я остаюсь один на один с своею совестью, один на один с некоторым знакомым мне господином, носящим имя Щедрина и забывающим даже о чине надворного советника, украшающем его безукоризненный формуляр. Странная вещь! когда я имею дело с преступником, кара составляет для меня предмет второстепенной важности, и главное, к чему я стремлюсь, – это пробуждение в преступнике сознания нарушенного долга, нарушенной правды.
"Mais c'est incroyable! vous divaguez, mon cher!" [180] – слышится мне отвсюду голос его превосходительства, который, несмотря на мои идеалистические наклонности, очень меня любит, потому что я говорю по-французски и довольно удачно полькирую с его дочерью. И однако ж, несмотря на восклицание его превосходительства, результаты моего идеального обращения с обвиненным субъектом оказывались иногда поразительные, Случалось, что закоснелый преступник вдруг зальется слезами и начнет рыдать, но так болезненно, сосредоточенно, что и мне все сердце изорвет своими рыданиями…
Иной, судя по моим действиям и по тем усилиям, которые я употребляю, чтобы овладеть доверием обвиняемого, подумает, что я в некотором роде крошечный Макиавель, а между тем я действительно только идеалист, и больше ничего. Если я прост и ласков, то это потому, что природе не заблагорассудилось наделить меня ничем «внушающим» или, так сказать, юпитеровским; если я вижу человека в самом преступнике, то это потому, что мысль о том, что я сам человек, никак не хочет покинуть мою ограниченную голову. Одним словом, я каюсь, я прошу прощения: я идеалист, я человек негодный, непрактический, но не бейте меня, не режьте меня за это на куски, потому что я в состоянии этим обидеться.