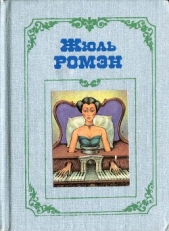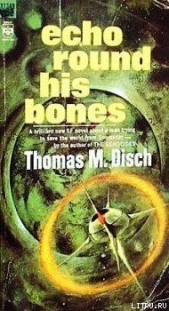Путём всея плоти
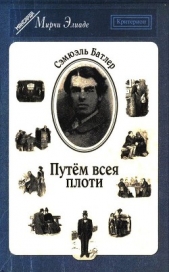
Путём всея плоти читать книгу онлайн
В серию «Мансарда» войдут книги, на которых рос великий ученый и писатель Мирча Элиаде (1907–1986), авторы, бывшие его открытиями, — его невольные учителя, о каждом из которых он оставил письменные свидетельства.
Сэмюэль Батлер (1835–1902) известен в России исключительно как сочинитель эпатажных афоризмов. Между тем сегодня в списке 20 лучших романов XX века его роман «Путём всея плоти» стоит на восьмом месте. Этот литературный памятник — биография автора, который волновал и волнует умы всех, кто живет интеллектуальными страстями. «Модернист викторианской эпохи», Батлер живописует нам свою судьбу иконоборца, чудака и затворника, позволяющего себе попирать любые авторитеты и выступать с самыми дерзкими гипотезами.
В книгу включены два очерка — два взаимодополняющих мнения о Батлере — Мирчи Элиаде и Бернарда Шоу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После обеда, когда Эрнеста оставили на полчаса наедине с настоятелем, он осыпал его комплиментами, так что старый джентльмен был польщён и ублажён сверх всяких пределов. Он встал и поклонился.
— Эти высказывания, — сказал он voce sua [285], — весьма для меня ценны.
— Они лишь малая толика, сэр, — ответствовал Эрнест, — того, что любой из ваших учеников чувствует по отношению к вам, — и так они и проделывали все па словесного менуэта у эркера, выходившего на ровно остриженный газон. На этом Эрнест удалился; однако через несколько дней доктор прислал ему письмо, в котором сообщал, что его недоброжелатели — sklerhoi kai antitupoi [286], и в то же время anekplektoi [287]. Эрнест вспомнил слово sklerhoi и понял, что другие слова той же природы, так что всё в порядке. Через месяц или два доктор Скиннер почил с отцами своими.
— Он был старый дурак, Эрнест, — сказал я, — и тебе не следовало играть с ним в благожелательность.
— Я ничего не мог с собой поделать, — отвечал он. — Он был так стар, что это было, как играть с ребёнком.
Иногда Эрнест, как и все, чей разум активен, перетруждается, и тогда у него происходят гневные, полные упрёка столкновения с доктором Скиннером и Теобальдом во сне — но и только; хуже этого сии двое достойных мужей досаждать ему более не могут.
Мне всё это время он был сыном и более, чем сыном; по временам я немного опасаюсь — например, когда я говорю с ним о его книгах, — что и я для него как отец более, чем следовало бы; если это так, я очень надеюсь, что он мне это прощает. Его книги — единственное яблоко раздора между нами. Я хочу, чтобы он писал, как все, и не обижал столь многих из своих читателей; он говорит, что может изменить манеру письма не более, чем цвет своих волос, и что он должен писать, как пишет, или не писать вовсе.
Благожелательностью публики он, как правило, не пользуется. За ним признают талант, но, как правило, эксцентричного и непрактичного свойства, и насколько бы он ни был серьёзен, всегда возникают подозрения, что он дурачится. Его первая книга принесла ему успех по причинам, которые я уже объяснял, но ни одна из последующих не была чем-либо иным, кроме как почётным провалом. Он принадлежит к тем несчастливцам, у которых каждая из книг немедленно по выходе обругивается литературными критиками, но становится «отличным чтением», как только появляется следующая, которую, в свою очередь, сурово осуждают.
Ни разу в жизни он не пригласил рецензента на ужин. Я повторяю ему снова и снова, что это неумно, и каждый раз подтверждается, что это единственное моё высказывание, из-за которого он может на меня разозлиться.
— Какое мне дело до того, — говорит он, — читают ли мои книги или нет? Пусть им будет до этого дело. У меня и без того слишком много денег, чтобы желать ещё больше, а если в книгах что-нибудь есть, оно постепенно выплывет само. Я не знаю — да и мне не очень это важно, — хороши ли они. Как может человек в здравом уме иметь мнение о собственной работе? Кто-то должен писать дурацкие книги, как должны быть недозрелые мнения и третьесортные их собиратели. Почему я должен сетовать на то, что состою в посредственностях? Если человек не опускается абсолютно ниже посредственности, он и за это должен быть благодарен. Кроме того, книги должны стоять сами за себя, так что чем скорее они начнут, тем лучше.
Не так давно я говорил о нём с его издателем.
— Мистер Понтифик, — сказал он, — homo unius libri [288], но говорить ему об этом бесполезно. — Я видел, что издатель, которому полагается понимать такие вещи, утратил всякую веру в литературный статус Эрнеста и рассматривал его как человека, чей неуспех был тем более безнадёжен, что однажды он произвёл фурор. — Он находится в полном одиночестве, мистер Овертон, — продолжал издатель. — Он не вошёл ни в какую группировку, а врагов себе нажил не только в мире религии, но также и в литературном, и научном сообществе. В наши дни так не пойдёт. Если человек хочет успеха, он должен принадлежать к группировке, а мистер Понтифик не принадлежит ни к какой группировке, даже ни к какому клубу.
— Мистер Понтифик, — отвечал я, — в точности напоминает Отелло, с одной только разницей — он ненавидит без меры и благоразумья [289]. Он невзлюбил бы литературных и научных тузов, если бы узнал их поближе, а они его; между ними и им естественной взаимной склонности быть не может, и если бы его привели к ним, его положение теперь было бы ещё хуже нынешнего. Его внутреннее чутьё говорит ему об этом, так что он инстинктивно чурается их и нападает на них всякий раз, когда считает, что они этого заслуживают — в надежде, может статься, что молодое поколение прислушается к нему с большей готовностью, чем нынешнее.
— Можно ли, — сказал издатель, — вообразить что-либо более непрактичное и неосмотрительное?
На всё это Эрнест отвечает единственным словом: «Подождём».
Вот что происходит с моим другом в последнее время. У него вряд ли, надо отдать ему должное, появятся поползновения основать Колледж духовной патологии, но я должен оставить на усмотрение читателя решать, не наблюдается ли сильного фамильного сходства между Эрнестом Колледжа духовной патологии и Эрнестом, непременно желающим обращаться к следующему поколению вместо своего собственного. Он сам, по его словам, очень надеется, что нет, и раз в год регулярно принимает причастие, умасливая Немезиду, чтобы снова не впасть в сильное пристрастие к какому бы то ни было предмету. Это для него довольно утомительно, но «нет мнения, — говорит он иногда, — которого стоило бы придерживаться, разве только человек знает, как с лёгкостью и благородством отречься от него во имя милосердия». В политике он консерватор — в смысле голосования и материального интереса. Во всех остальных смыслах он прогрессивный радикал. Его отец и дед вряд ли могли бы понять состояние его ума лучше, чем они понимали по-китайски, но знающие его близко не уверены, что хотели бы, чтобы он сильно отличался от себя теперешнего.

Джордж Бернард Шоу:
Рецензия на «Воспоминания о Сэмюэле Батлере» Фестинга Джонса [290]
Батлер рассказал в романе «Путём всея плоти» историю своего детства с таким устрашающим великолепием, что лучше нельзя было придумать. «Путём всея плоти» — одно из вершинных человеческих достижений в этом жанре; и жизнь Батлера будет лишь полувразумительна для тех, кто не распознал его родителей в мерзейшем Теобальде и его Кристине, самими своими именами возвещающих, что они сделали своих богов столь же ненавистными для своего сына, как и самих себя.
Но мораль жизни Батлера в том, что даже гений не может пройти через такое воспитание, какому подвергли Батлера, и не поранить, не изувечить при этом свою душу. Именно его гений, постоянно пробивавшийся к истине, ещё в детстве подсказал ему, что этот его набожный отец, неизбывное чувство благодарности к которому всегда казалось ему недостаточным, и эта благочестивая ангелоподобная мать, под чьим неусыпным надзором ему так посчастливилось пребывать, были в лучшем случае достойными жалости, извращёнными и живущими в страхе пустышками, и что он ненавидел их, боялся и презирал всем своим существом. К сожалению, на этом дело кончиться не могло. Батлер был от природы до того привязчив, что бессердечным людям ничего не стоило его обмануть. Ребёнком он искал любви дома — и в ответ его чувствами пользовалась мать, чтобы выпытывать его тайны, и бил отец, дрессировавший его в точности так, как если бы он был цирковым животным, с той разницей, что не учил ничему забавному. А ребёнок всё верил, что любит своих дорогих родителей, что у него счастливая нежная семья с незапятнанной репутацией и неоспоримым социальным престижем. Когда он понял, как его дурачили и как он дурачил себя сам, он ринулся в другую крайность с таким неистовством, что взял для себя за правило в искусстве жизни не принуждать себя любить то, что на самом деле тебе противно или неинтересно и считать такое принуждение глупейшей и злейшей ошибкой. Соответственно мы и находим Батлера «ненавидящим», из принципа, всё, что не соприродно ему и не даётся легко при самой первой пробе. Он «ненавидел» Платона, Еврипида, Данте, Рафаэля, Баха, Моцарта, Бетховена, Блейка, Россетти, Браунинга, Вагнера, Ибсена — собственно говоря, всех, кто не приходился ему по вкусу непосредственно и мгновенно, как ребёнку леденец. Исключением был Гендель, потому что он приучился любить музыку Генделя в дни своих детских иллюзий; но я подозреваю, что если бы он не слышал музыку Генделя до того, как принял для себя своё правило, он осудил бы его как показушного тамбурмажора и признал бы одним из Семи Надувал христианского мира.