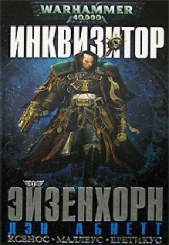Ценой потери

Ценой потери читать книгу онлайн
В затерянном африканском лепрозории появляется, неизвестно зачем, европеец. Маленькое общество его соотечественников (врачи, миссионеры, колонисты) смущено, заинтриговано, взбудоражено. Чего желает этот нежданный гость, что несет в себе, что получит и какой ценой обретет он вновь вкус к жизни?
В романе документально точно изображена колония для прокаженных и стадии болезни. Однако писатель придал образу проказы нравственно-философский смысл, притом отчетливо неоднозначный. Проказа — это и проклятье мучительного самовыражения личности, и поклонение ложным кумирам, и тенета духовного гнета, и ограниченность природы человека…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ноги у старика были тонкие, как у ребенка, бедра — из приличия обернуты тряпкой, чуть пошире детского свивальника. Проходя двором, Куэрри видел, что одежда его, аккуратно свернутая, лежала в новом кирпичном домике, под портретом папы. На его впалой груди, поросшей редкими седыми волосами, висел амулет. Лицо у старика было очень доброе, полное благородства. Это было лицо человека, вероятно принимающего жизнь без единой жалобы, — лицо святого. Он справился у доктора о его самочувствии, как будто болен был доктор, а не он сам.
— Может быть, тебе что-нибудь нужно, так я принесу, — сказал Колэн. Но старик ответил: нет, у него все есть. Он спросил, давно ли писали доктору из дому, и поинтересовался здоровьем матери доктора. — Она ездила отдыхать в Швейцарию, в горы. Ей захотелось туда, где снег.
— Снег?
— Я забыл. Ты ведь не знаешь, что такое снег. Это замерзшие испарения, замерзший туман. Воздух там такой холодный, что снег никогда не тает и лежит на земле белый, мягкий, как перья pique-boeuf [20],а тамошние озера покрыты льдом.
— Что такое лед, я знаю, — с гордостью сказал старик. — Я видел лед в холодильнике. Твоя матушка старая — как я?
— Старше.
— Тогда ей нельзя уезжать далеко от дома. Умирать надо в своем поселке, если это возможно. — Он с грустью посмотрел на свои тонкие ноги. — Они не доведут меня, а то я бы ушел к себе домой.
— Хочешь, я дам тебе грузовик, — сказал доктор, — но боюсь, ты не перенесешь дороги.
— Нет, зачем же вам беспокоиться, — сказал старик. — И все равно поздно, потому что завтра я умру.
— Я скажу настоятелю, чтобы он пришел к тебе, как только освободится.
— И настоятеля я не хочу беспокоить. У него столько всяких дел. Я умру только к вечеру.
Возле старого шезлонга стояла бутылка из-под виски с ярлыком «Джонни Уокер». В какой-то бурой жидкости там торчал пучок травы, перехваченный ниткой четок.
— Что это у него? — спросил Куэрри, когда они выходили со двора. — В бутылке?
— Снадобье. Заговоренное. Так он взывает к своему богу Нзамби.
— Я думал, он католик.
— Когда мне приходится заполнять анкету, я тоже называю себя католиком, хотя в общем-то ни во что не верю. А он верит наполовину в Христа, наполовину в Нзамби. Что касается религии, разница между нами небольшая. А вот быть бы мне таким же хорошим человеком, как он!
— И он действительно умрет завтра?
— Да, по всей вероятности. У них удивительное чутье на этот счет.
В амбулатории, держа на руках маленького ребенка, доктора дожидалась прокаженная с забинтованными ступнями. На тельце у малыша резко выступали ребра, оно казалось клеткой, прикрытой на ночь куском темной материи, чтобы птица уснула, и детское дыхание было как птица, что все копошилась и копошилась под темным покровом. Убьет этого ребенка не лепра, сказал доктор, а лейкемия — неизлечимая болезнь крови. Надежды никакой. Он умрет, даже не успев заразиться лепрой, но матери говорить об этом незачем. Доктор коснулся пальцем впалой грудки, и ребенок болезненно дернулся. Тогда доктор начал сердито отчитывать мать на ее языке, а она оправдывалась — видимо, неубедительно, держа сына у бедра. Печальные круглые, как у лягушонка, глаза мальчика смотрели поверх докторова плеча с такой безучастностью, точно его уже ничто не касалось — кто бы и что бы ни говорил. Когда женщина вышла, доктор Колэн сказал:
— Обещает больше не делать этого. Да разве на них можно положиться?
— Чего не делать?
— А вы не заметили рубчика у него на груди? Ему сделали надрез и суют туда, как в карман, какие-то снадобья. Мать сваливает все на бабку. Несчастный ребенок. Без мучений ему и умереть не дадут. Я сказал ей: если это повторится, лечить тебя от проказы здесь не будут, и теперь этого мальчика мне, наверно, больше не видать. Он в таком состоянии, что его ничего не стоит спрятать, как иголку.
— А почему вы не положите его в больницу?
— Вы видели, какая у меня больница. Хотелось бы вам, чтобы ваш сын умирал в таком месте? Следующий, — сердито крикнул он. — Следующий.
Следующий был тоже ребенок, шестилетний мальчик. Вместе с ним пришел отец, и беспалая отцовская рука лежала на плече сына, подбадривая его. Доктор повернул мальчика и провел пальцами по нежной детской коже.
— Ну, — сказал он, — пора вам самому разбираться. Ваше мнение?
— Одного пальца на ноге уже нет.
— Это пустяки. У него были подкожные песчаные блохи, их не вывели вовремя. Это частое явление в джунглях. Нет, я не о том. Вот первый бугорок. Проказа только-только начинается.
— Неужели детей никак нельзя уберечь от заражения?
— В Бразилии новорожденных сразу же отделяют от больных матерей, и тридцать процентов их умирает в младенческом возрасте. Я считаю: пусть у ребенка проказа, но зато он живой. Года за два мы его вылечим.
Доктор быстро взглянул на Куэрри и снова опустил глаза.
— Когда-нибудь… в новой больнице… мы откроем специальную детскую палату и детскую амбулаторию. Я буду предупреждать появление таких вот бугорков. Я еще доживу до того времени, когда проказа начнет отступать. Известно ли вам, что есть районы, за несколько сот миль отсюда, где на каждые пять человек один — прокаженный? Сплю и вижу серийный выпуск передвижных стационаров! Способы ведения войны изменились. В 1914 году генералы командовали сражениями из загородных вилл, а в 1944 Роммель и Монтгомери воевали на ходу, из машин [21]. Как мне втолковать отцу Жозефу, что от него требуется? Я не чертежник. Какую-нибудь одну единственную комнату и то мне путем не спроектировать. Я смогу сказать ему, где что не так, только когда больница будет построена. Он, собственно, и не строитель, а всего-навсего хороший каменщик. Кладет себе кирпичик на кирпичик во славу Божию, как в прежние времена строили монастыри. Вот почему мне нужны вы, — сказал доктор Колэн.
Мальчик нетерпеливо скреб четырьмя пальцами по цементному полу в ожидании, когда же белые люди кончат свой бессмысленный разговор.
2
Куэрри писал в дневнике: «Делать что-нибудь для людей из жалости я не способен, потому что во мне осталось слишком мало добрых чувств к ним». Он со всеми подробностями воспроизвел в памяти рубец на детской груди и четырехпалую ногу, но это его не растрогало, булавочные уколы, сколько бы их ни было, не могут вызвать ощущение подлинной боли. Надвигалась гроза, и летучие муравьи, роями влетая в комнату, с размаху ударялись о лампу, так что под конец окно пришлось затворить. На цементном полу муравьи бегали взад и вперед, как бы в полной растерянности от того, что они так внезапно превратились из воздушных созданий в создания земные. При затворенном окне влажная духота стала чувствоваться еще сильнее, и, чтобы пот не попадал на бумагу, Куэрри подложил под кисть промокашку.
Он писал, стараясь объяснить доктору Колэну мотивы своих поступков. «Призвание это акт любви, а не профессия, не карьера. Когда желание умирает, физическая близость с женщиной невозможна. Я истратил себя до конца и в любовных делах и в своем призвании. Не пытайтесь связать меня браком без любви, не заставляйте имитировать то, чему я когда-то отдавался со страстью. И не твердите мне, как в исповедальне, о моем долге. Талант — мы проходили это в детстве на уроках закона Божия — нельзя зарывать в землю, пока у него еще есть покупательная способность, но когда в обращение пущены другие деньги с другими изображениями, когда ценность отдельной монеты равняется лишь стоимости пошедшего на нее серебра, человек имеет право запрятать эту монету куда-нибудь подальше. Старинные монеты, так же как и зерно, всегда находят в могилах».
Писалось все это наспех и выходило довольно бессвязно. Не дано ему было отыскать точное словесное выражение своим мыслям. Кончил он так: «Все, что я строил, я строил для самого себя, а вовсе не во славу Божию и не в угоду заказчикам. Не говорите мне о людях. Люди — вне моей сферы действия. Впрочем, разве я не предлагаю стирать их грязные бинты?»