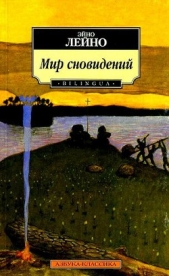Как-то Киесус, бог Карельский,
пастухом служил, батрачил
в доме Руотуса-урода [4].
Баба Руотуса, поганка,
собрала ему котомку —
клала пять краюшек хлеба
да соленых шесть рыбешек:
хлеб-то весь заплесневелый,
рыба год лежала в кадке.
Ждал, на камне сидя, Киесус:
«Принесла зачем такое?»
Роза тихо отвечает:
«Мать припасы собирала —
дочка проливала слезы».
Спрашивает бог Карельский:
«О чем, красавица, плачешь?»
Роза-золотко зарделась:
«Плачу я о человеке,
о судьбе его несчастной».
Разломил Господь краюху,
положил на пень еловый:
«Пировать садись со мною!»
Хоть противно было Розе,
отказаться не посмела,
съела маленький кусочек,
а второй уже в охотку:
хлеб-то из пшеницы лучшей,
рыба свежего улова.
Про себя она дивится.
Спрашивает — что за чудо?
Улыбнулся тихо Киесус:
«Хлеб Создателя — чудесный
Человека пожалела
хлеб слезами умягчился,
о судьбе его рыдала —
сделалась еда вкуснее
под Господним синим небом,
на трапезе его щедрой».
Как домой вернулась Роза,
с той поры не постарела.
Kiesus Kaijalan jumala
tuo oli kaijan kaitsijana
ruman Ruotuksen talossa.
Ruoja Ruotuksen emänta
pañi konttihin evästa,
viisi leivän viipaletta,
kuusi suolaista kaloa,
leivät hannaassa homeessa,
kalat kaikki vuoden vanhat.
Kultaruusu, Ruojan tytär.
Virkahti kiveltä Kiesus:
«Miksi tuot minulle näitä?»
Lausui kaunis Kultaruusu:
«Eväät on emon panemat,
itkut immen vierittamät».
Kysyi Kaijalan jumala:
«Mita itket, miesten lempi?»
Puikutti punainen Ruusu:
«Osoa inehmon itken,
koko kohtalon kovuutta».
Mursi Luoja leivänkyrsan,
pañi palasen kannikalle.
«Siis kera pitoihin käyösl»
Nyrpisti nenäänsä Ruusu,
toki kuuli käskijätä,
söi palan hyvillä mielin,
toisen miellä mielemmällä;
palat on parhainta nisua,
kalat kaikki vastasaadut.
Ihmetteli itseksensä.
Jo kysyikin Kiesukselta.
Hymähti hyvä jumala:
«Niin on laatu Luojan leivän.
Min osoa inehmon itkit,
sen mehustit särvintäsi,
minkä kohtalon kovuutta,
sen sulostit suupaloja,
alla taivahan sinisen,
amo-Luojan atrialla.»
Juoksi, joutui kohin kotia,
ei ikinä isonnut Ruusu.
Так седые пели боги,
бородатые ревели
возле озера Округи,
на пиру в избе Удачи:
«У того блаженный жребий,
тот схватил за косу счастье,
у кого в руках уменье.
У него в дому достаток,
не иссякнет в бочках пиво.
А Удача, тот счастливец,
тот умелый землепашец,
наливал в братину пива,
таковое слово молвил:
«Вот житье-то, вот веселье!
У меня добра в избытке,
да одно печалит сердце:
Туони придет суровый,
Куоло все под корень скосит» [5].
Только выговорил это,
зазвенели колокольцы,
за забором забренчали,
к ним прислушался хозяин;
боги тоже приумолкли.
Новый гость ввалился в избу,
в бороде, на шапке иней,
на бровях висят сосульки;
тут лучина стала гаснуть,
побледнел лицом Удача.
Молвил Куоло незваный:
«Коль никто не привечает,
сам скажу себе: с приездом!»
А Удача, тот счастливец,
тот умелый землепашец,
чует — в жилах кровь застыла,
сердце будто замирает
от невыразимой муки;
все ж приветливо сказал он:
«Ты пожалуй к нам на праздник,
пива пенного отведать».
Буркнул гость заиндевелый:
«Я пришел не веселиться,
сам налью себе я пива».
Он шагнул к гостям почетным,
выпил пенную братину,
говорит слова такие:
«Новостей никто не спросит —
сам скажу, какие вести:
путь-дорога ждет Удачу,
сани — увезти героя».
Помертвел, поник Удача,
подкосилися колени,
рухнул он бессмертным в ноги,
завопил истошным криком:
«Не могу еще расстаться
с домом добрым и с хозяйством,
с молодой моей женою!
Хоть на день прошу отсрочки,
на одну неделю, на год!»
Странно усмехнулся Куоло:
«Мы насильно не уводим,
да еще богов любимца.
Что ж, мое-то время терпит».
Вышел из избы Туони,
за собою дверь захлопнул;
не отдышится хозяин,
переводят дух и гости.
А Удача, тот счастливец,
тот умелый землепашец,
чует — в жилах кровь взыграла,
сердце словно вырастает
от веселья удалого;
наливал в братину пива,
таковое слово молвил:
«Вот житье-то, вот веселье,
на столах еды в избытке,
да всего сильнее радость:
воротиться с Туонелы [6],
видеть, как уходит Калма».
Праздник шел, ковши гуляли,
наполнялися, пустели.
Захмелел, заснул Удача.
Он в пустой избе проснулся,
услыхал мороз трескучий,
поглядел в окно Удача:
у ворот коня увидел,
смирно конь стоял в упряжке,
на санях — дородный кучер,
воротник тулупа поднят.
Побледнели в небе звезды,
утро зимнее вставало.
Вспомнил он вчерашний вечер
и сказал как будто в шутку:
«Дом в работу — гость в дорогу!
Эй, пора уж просыпаться!»
Но в ответ ему — ни звука.
Высек он огонь огнивом.
Глянул в горницу и в сенцы
и пошел наверх в светелку,
где молодка почивала;
громко с лестницы позвал он:
«Время, милая, проснися —
звезды ясные бледнеют!»
Тут Удача, тот счастливец,
тот умелый землепашец,
он недоброе почуял,
нехороший в жилах холод;
снова в горницу вернулся,
подошел к печи поближе:
печь давно, видать, остыла.
Снова глянул он в окошко:
конь стоял как был — стеною,
как гора, вздымался кучер.
Вспомнил он вчерашний вечер —
губы сами улыбнулись:
«Хорошо тому счастливцу,
кто с богами покумился».
Потянулся он, зевая,
да прилег в углу на лавку,
порешил поспать немного;
головой крутил, руками,
так ворочался и эдак —
сон нейдет, как ни старайся.
Подскочил в сердцах Удача,
осердился, заругался:
«Веселей пойдет гулянье,
коль гостей чуток убудет!»
Отвечал холодный кучер:
«Что ж, пойдем — пора в дорогу».
Как узнал Удача гостя,
сердце в нем захолонуло:
«Получил я год отсрочки!»
Гость ледовый усмехнулся:
«Получил годов ты сотню,
да неужто не заметил?»
А Удача и не помнит,
чтобы жил он после пира:
«У меня сынок был малый».
Говорит морозный Туони:
«Умер он и похоронен,
в Манале уж век лежит он».
Тут Удача, тот счастливец,
тот умелый землепашец,
распознал богов подарок,
говорил он, горько молвил:
«Ни за что на свете, смертный,
не садись за стол с богами!
У богов пиры-то долги —
быстры годы человечьи,
словно колесо у прялки.
Золотые дни мелькнули —
всей-то жизни время вышло,
молодца хребет согнулся
в этих праздниках веселых,
на попойках у бессмертных».
Сел он в розвальни к Куоло,
зазвенели колокольцы
в дымке зимнего рассвета,
прозвенели на проселке,
на озерном льду затихли.