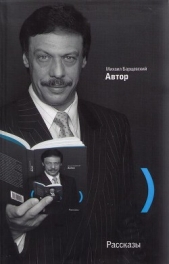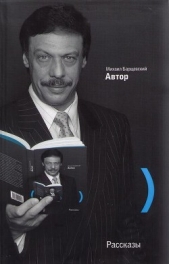Повесть о пустяках

Повесть о пустяках читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Снова, как и всегда — во все войны, любители отечественной словесности начинают, при известной доле сочувствия со стороны слушателей, свои упражнения в стилистике. Вслед за графом Ростопчиным берет слово молодой депутат Керенский:
— Мы верим, что на полях бранных в великих страданиях укрепится братство всех народов России и родится единая воля освободить страну от страшных внутренних пут… Крестьяне и рабочие, все, кто хочет счастия и благополучия России, в великих испытаниях закалите дух ваш, соберите ваши силы и, защитив страну, освободите ее!..
Наконец, Верховный Главнокомандующий шлет «Воззвание Русскому Народу»:
«Братья!
Творится суд Божий.
Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы Русский народ в его порыве к объединению. Да не будет больше подъяремной Руси. Достояния Владимира Святого, земля Ярослава, Остомысла, Князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузят стяг единой, великой, нераздельной Руси. Да поможет Господь Царственному Своему Помазаннику Императору Николаю Александровичу Всея России завершить дело Великого Князя Ивана Калиты.:
Верховный Главнокомандующий
Генерал-Адъютант и Великий Князь
НИКОЛАЙ».
Апушин хохочет. От смеха прыгают в его руках газетные листы.
— Непростительная рассеянность, — произносит Коленька Хохлов, — позабыты Синеус и Трувор.
За плетнем мелькает гимназист на велосипеде: последние соринки испорченного дачного сезона.
— Стиль определяет собой содержание, — говорит юноша в матросской блузе, крутолобый Толя Житомирский. — По существу, безразлично, что именно в данном случае подлежит анализу: этот идиотский манифест, Дон Кихот Ламанчский или «Тристрам» Стерна. Мы объявляем новый метод анализа, построенный…
Апушин настораживается. Газета белеет в траве и, толкаемая легким, незлобным ветром, все дальше относит слова о войне:
«…Упорные бои между Рава-Русская и Днестром продолжаются. На восточно-прусском фронте неприятель продолжает наступать. Упорные атаки германцев в районе Бакаларжево развиваются… Тяжелая и гаубичная артиллерия противника в районе Пеняки…
Ничего существенного не произошло. Во многих местах перед нашими окопами накопились груды неприятельских тел, стесняющих даже наш прицел…
…Горемыкин, Палеолог, Бьюкенен, Кривошеин, Сазонов, граф де-Бьюиссере, Сухомлинов, Крон-принц, Григорович, Спалайкович, Ренненкампф, Тимашев, Рухлов…»
Газета скользит и вспархивает над душистой кашкой, несомая ветром.
Имена и дела отлетают к плетню. Толя Житомирский говорит о форме художественного произведения.
(edit)
24
Наконец произошло то, чему страшно было верить и чего с жадным интересом ожидали, как в цирке ждут последнего прыжка из-под купола: по Невскому проспекту, прихрамывая и опираясь на палку, шел раненый офицер.
Левая рука его висела на перевязи, лицо было наполовину забинтовано, на груди белел новенький Георгиевский крест. Офицер направлялся в кинематограф «Пикадилли».
Только с появлением первых раненых Россия поверила тому, что война стала явью. Официальные сводки, печатавшиеся в газетах, казались не более чем литературой. Россия, подобно Фоме Неверящему, хотела осязать войну, убедиться воочию в ее существовании. Режиссеры войны торопились поэтому возможно скорее послать раненых в глубокий тыл, рассыпать по стране микробы, способные вызвать, пробудить, разжечь необходимый подъем чувств, без которых не могло быть ни войны, ни победы. Санитарные поезда, груженные стонами, кровью, йодоформом, смертью, — направились с фронта в дремотную Пензу, в самоварную Тулу, в мирный и миролюбивый Орел, в Полтаву, Москву, Петербург. Искалеченные люди ложились струпьями на тело занемогшей России, вызывая боль, тревогу, бред. Впоследствии, когда война сделалась бытом, непреодолимой ежедневностью, когда корреспонденциями с фронта, телеграммами из Ставки Главнокомандующего, вытянув строки в одну линию, можно было многажды опоясать земной шар; когда в России не оставалось ни одной семьи, войной не тронутой, не разбитой, не напуганной; когда ей, России, приходились уже в тягость все новые и новые партии калек, не предусмотренные режиссерами лишние рты, ненужные, бесполезные, неработоспособные члены семьи, осколки, обрезки, обрубки, куски кровоточащего и несъедобного мяса, — тогда естественно и неизбежно санитарные поезда, шедшие из окопов, вместо энтузиазма везли с собой ненависть к войне и возмущение. Но если в начале войны — только в начале! — некоторая часть России сумела пережить чувство, называемое патриотическим гневом, то это случилось именно в те дни, когда на улицах далеких от фронта городов показались первые жертвы сокрушительной эпидемии.
Вечер был воскресный, проспект многолюден. Человеческий туннель расступался перед раненым офицером. Он смотрел печально и просто на незнакомых людей, обнажавших перед ним головы, на военных, поспешно козырявших ему независимо от чинов, на женщин, глядевших испуганно, сочувственно и восхищенно. Ребятишки бежали за ним почтительной гурьбой.
Офицер поднимался по ступеням «Пикадилли». За плечами офицера реяли патетические крылья войны. Представление было прервано. Люди подымались со своих мест. Пафос войны вошел в залу кинематографа. Сквозь фортку оцинкованной будки, забыв про Веру Холодную, механик разглядывал белое пятно забинтованной головы, в то время как в зале, протискиваясь между кресел, приближался к армейскому поручику седой генерал.
— Разрешите мне, старому солдату, — произнес генерал, — приветствовать вас, господин поручик… и… постойте, постойте… поздравить в вашем лице героя. Голос генерала дрожал. Пролетела по залу тишина — торжественная, неповторимая.
— Поручик Лохов. Ранен под Кенигсбергом. Я не полагал, что помешаю представлению, — тихо ответил офицер.
Поручик Лохов едет домой. Извозчик мчит своего седока. Сиреневая мгла электрических фонарей летит навстречу. В тот памятный день, когда на улицах Петербурга появился первый раненый с фронта, извозчик, гордый седоком, отказался принять от него деньги. Поручик Лохов, сойдя с пролетки, крепко жмет извозчику руку. С визгом и хрустом открывается дверь в темную дыру лестницы. Лохов стремительно взбегает на четвертый этаж, освобождая на ходу руку от перевязи. И неопрятной, холостой квартирке кудластая собачонка встречает хозяина радостным лаем. Поручик Лохов срывает с головы бинты, приглаживает ладонями взъерошенные волосы, раздевается и остается в одном белье, в несвежих егеровских кальсонах, напевая матчиш на слова:
Поручик производит ритмические телодвижения по системе Мюллера и, убедившись, что от бинтов, прихрамывания и ранений не осталось и следа, надевает халат и кидается на ковровую, потертую атаманку. На стене скрестились сабли и дуэльные пистолеты. Запалив старинную, обкуренную предками, длинную трубку, поручик мечтательно глядит в потолок; кольца голубого дыма уплывают в вышину. Иногда тонкая, прямая струя пронзает их одно за другим, нанизывает: шашлык на вертеле. Кнопками приколоты к обоям фотографии голых и полураздетых женщин — в чулках, в корсетах, в панталонах…
Белый пудель, похожий скорее на белую тень собаки, вьется подле атаманки. Поручик ложится на живот, протягивает арапник пуделя прыгать…
— Анкор, еще анкор! — повторяет поручик два, три, четыре раза, голос его тускнеет, поручик погружается в сон. Комната засыпает также. В воздухе повисает белая тень собаки — в прыжке над арапником.
25
Государь Император, удостоив внимания способности рисующего офицера, Высочайше повелеть соизволил предоставить ему добровольно оставить службу и посвятить себя живописи, с содержанием по 100 рублей ассигиациями в месяц. И вот появилась квартирка в Санкт-Петербурге, с грошовой мебелью, с гранатовыми обоями и золотым бордюром, с грудой холстов и папок. В папках лежали удивительные вещи, и, хотя торговец художественными изделиями и эстампами Дациаро с Морской улицы всему предпочитал заказные портреты, папки распухали от удивительных вещей. Маленькая квартирка часто пустовала: хозяин целыми днями блуждал по городу. Хозяин видел жизнь, питерскую жизнь, — изображенной на холсте фламандскими мастерами. Представление о жизни двоилось. Было странным и страшным родство российских сидельцев, горничных, расфуфыренных купчих, бородачей второй гильдии, крикливых сбитенщиков — с эрмитажными полотнами. Офицер лейб-гвардии Финляндского полка, капитан в отставке, Павел Андреевич Федотов, резался в «дурачка» в подворотне Апраксина рынка, и ему мерещилось, что он бродит в прохладных анфиладах музея. Борода собеседника, его енотовая шуба, варежки — казались писанными по полотну фламандцем Теньерсом. Федотов распознавал даже чуть приметный ворс кисти, заглаженные временем рельефы мазка. Чтобы еще крепче убедиться в своих наблюдениях, Федотов снова торопился в Эрмитаж, но там его неожиданно обступало многолюдье Апраксина рынка. День заканчивался головной болью, головная боль начиналась миганьем в глазах. Но одни ли только фламандцы? Вслед за фламандцами пришли англичане. Русский, руссейший капитан в отставке (с правом ношения мундира) до такой степени сливался с англичанином Хоггартом, что терял окончательно свою собственную сущность, за исключением, пожалуй, одного мундира лейб-гвардии Финляндского полка. Но разве нежинский землемер лесного департамента Венецианов, отмеряя мужицкие межи, не видел в родных полях в лапотных, босоногих нежинских жницах — образов классической Италии? И разве, несмотря на это, Россия знает художников более русских?