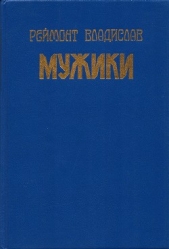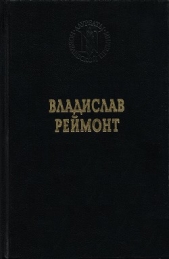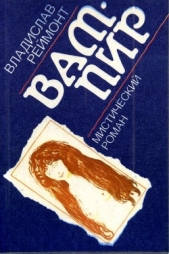Рассказы

Рассказы читать книгу онлайн
В сборник рассказов лауреата Нобелевской премии 1924 года, классика польской литературы Владислава Реймонта вошли рассказы «Сука», «Смерть», «Томек Баран», «Справедливо» и «Однажды», повествующие о горькой жизни польских бедняков на рубеже XIX–XX веков. Предисловие Юрия Кагарлицкого.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Верно! Выпьем, Гжеля!
— Пейте на здоровье. А кто виноват в его смерти? Если так по правде да по совести сказать, — только свинья да баба его, и больше никто. Была у него свинья, откормленная, толстая, как бочка. Ну, повел он ее продавать, потому что деньги были нужны. А снегу в тот день навалило по пояс. Намучился он, устал — не так-то легко продать! Потом колбасы поел, она у него внутри застряла. Тут ему и крышка! Если бы он ее горелкой запил, ничего бы с ним не случилось, — как бог свят, жив остался бы! А он не пил ничего — и полкружки не мог выпить.
— Не пил, потому что боялся, бедняга, ада в доме…
— Это верно. Баба у него замухрышка, а рука у нее тяжелая: колотила она его не один раз!
— Ваше, кум!
— Будем здоровы! А я вам вот что скажу: если бы он эту стерву бил так, чтобы она света не взвидела, — была бы у него женка смирная и ласковая на диво!
— Правда ваша, солтыс, [3] у покойника рука была слабая, и обычая нашего мужицкого он не соблюдал — вот теперь землю грызет, царство ему небесное, вечный покой!
— Аминь! Пей, Гжеля!
— Хорош муженек! Жена там еле дышит, а он тут пьет, поганец! — кричала какая-то баба, проталкиваясь к их столу.
— А что мне!.. Ребятишек, как мусору, полна хата, а тут еще новый…
— Гжеля, не гневи бога, не то он еще ее у тебя отнимет!
— Выпейте глоточек, кума, и сейчас пойдем…
— Мне вот Иисус не дал ребят, не послал утешения на старость, — сказала женщина. — А я уж так его просила, и в Ченстохов ходила на богомолье, и у докторов разных лечилась — ничего не помогло. Осталась на свете одна, как перст.
— Ну, ну! Захотела баба ребенка, когда ей сто лет скоро стукнет!
— Не болтал бы ты чепухи, Червиньский, — что же я молода не была, что ли?
— Господь бог переселился на небо, дьявол — в женщину, а квас — в пиво, только неизвестно, когда… запомни это, баба, потому что тебе это Червиньский говорит!
В углу на сундуке сидел молодой паренек, сын здешнего органиста, а перед ним стояла древняя старуха и говорила звучным топотом:
— Семьдесят шесть лет на свете живу, паничек, всего насмотрелась, видела и белое, и черное, и всякое. Служила у таких панов, что только на рысаках ездили, ели на серебряной посуде и по-заграничному между собой говорили. А где они теперь? Где? И читать по молитвеннику я умею, и первой хозяйкой слыла на всю деревню, и дети были у меня, и добра сколько… а все куда-то пропало, ушло, как солнышко летнее, что господь посылает нам, грешным, на радость. Я теперь все знаю, паничек. Знаю, что и панское житье и мужицкое — только одна маята. Я простая баба, но семьдесят шесть лет прожила, — так все понимаю. Паничек! Свет стоит уже шесть тысяч лет — так ведь?
— Да, без малого шесть тысяч.
— Вот видите, панич, я все знаю! И думаю я себе так: шесть тысяч лет свет стоял и без меня обходился, зачем же я столько лет мучилась? Для чего это нужно было?
— Что поделаешь! Если господь дал человеку жизнь, так значит…
— Нет, паничек, — с живостью перебила старуха. — Я простая баба, а вы ученый, и на органе играете, и по-латыни его преподобию в костеле подпеваете, и знаете, когда надо тянуть тонко, а когда — густо. Но я вам скажу: это, наверное, дьявол выпускает на свет божий душеньки человеческие — для того, чтобы они страдали и мыкались тут столько лет. Может, это грешные мысли, а я все-таки скажу: не божья это воля, хотя и в книжках так пишут и ксендз так говорит. Какая Иисусу корысть от того, что столько людей натерпится, набедуется в жизни?.. Ведь Иисус добр и справедлив!.. А жизнь наша не сладкая, не шелковая, нет, — она, как скребница, дерет, так что у человека душа кровью обливается.
— Что вы такое говорите, Ягустинка, — грех это…
— Грех только других обижать, а я и собаку палкой не трону, потому что она тоже живая тварь и боль чувствует. Паничек, я серая баба, но сердце у меня, как уголь, сгорело, потому что я на своем веку напилась горя, и своего и чужого. И знаю, что жизнь нам дал сатана на зло господу богу, чтобы бедные люди вечно мучились на этом свете… Но Иисус милосердный сжалился над нами, одолел нечистого и понемногу отбирает людей для своего царства небесного, пока всех не заберет туда. И я только того и жду, чтобы пришла Костуха [4] и сказала: «Пойдем!» Жду и бога молю, чтобы мне поскорее глаза закрыть, не знать больше никакой заботы и горя и отдыхать себе спокойно… Отдыхать, паничек…
Она стояла, выпрямившись, склонив над задремавшим сыном органиста высохшее лицо, перепаханное заботами и годами, и в ее выцветших, исплаканных глазах блестели слезы… Она торопливо отерла их концом запаски, тихонько вздохнула и отошла к Томеку, одиноко сидевшему на сундуке с бутылкой в руках.
— Томек, что-то неладное у тебя из глаз смотрит! — сказала она шопотом, дотрагиваясь до его плеча.
— Горе смотрит — а что же еще? Разве вы, бабуся, не знаете?
— Слыхала кое-что, да люди разное говорят, — не знаю, кому верить.
— Со службы меня прогнали, — пробормотал Томек уныло.
— За что же?
В ее голосе слышалось горячее сочувствие.
— За что?.. Да оттого, что я дорожного мастера не ублажал. Ему мужики все носят — под осень гусей, на заговенье — масло, на пасху — поросенка да яиц, ко всякому празднику — цыплят… А я не носил: откуда мне взять? Детей нечем было кормить. Жену у меня заботы да горе извели, корова пала — тоже не от хорошего житья… а картошка, сами знаете, какая в нынешнем году уродилась: выкопал меньше, чем посадил. Я на части разрывался, а жену не спас и ничего не мог поделать. Работал, как вол, и на службе и дома, днем и ночью, да нужды не одолел. Мастер постоянно ко мне придирался, а что я мог ему дать? Разве только хорошего тумака в бок, потому что мне и детям самим есть нечего. Вот он со зла все гонял меня, следил за каждым моим шагом. Писал начальнику на меня рапорты, что я и упрям, и лентяй, и на работе сплю, что участок не обхожу… а потом наговорил на меня, будто я железо со склада стащил…
— Томек, а ты взял его? Правду говори, — ведь теперь уже все равно…
— Не брал я, бабуся, нет! Пусть я, как паршивый пес, околею без святого причастия, если я неправду говорю! Никогда я чужого не трогал! Другие не раз крали, а мой отец не крал, и его сын вором не будет. Пусть я бедняк, а вором быть не хочу.
— И только за то тебя прогнали? А люди говорили, будто железо нашли у тебя.
— Верно, нашли, да только не я его принес! Михал Рафалов посулил мастеру пятьдесят рублей, чтобы он его на работу принял, а вакансий не было, вот он и подбросил мне железо, а потом донес на меня. Сделали обыск, нашли — и уволили меня. Все пропало, потому что, хоть я и знал, кто это сделал, — свидетелей не было. Семья в шесть человек осталась без куска хлеба. Заработать негде, есть нечего, — какая это жизнь! Если Иисус милосердный не поможет, не выдержу, нет, не выдержу!
Он безнадежно вздохнул, и слезы потекли по темным запавшим щекам.
— Эх, судьба человечья! Только слезы лицо изроют и душа от боли застынет, как птичка на морозе, а спасенья нет ниоткуда. Одни дураки верят, что есть добро на свете. Этим добром мы сыты по горло! — с горечью пробормотала старуха. — А ты все-таки не поддавайся, Томек. И сатану Иисус поборол, так почему честный человек не может одолеть нужду, если пресвятая дева поможет? — утешила она его и отошла к стойке. Там купила две связки бубликов, кружку просяной крупы и вернулась к Томеку.
— Томек, вот возьми крупу и бублики для детей. Рада бы тебе помочь, да больше нечем, я тоже бедная вдова. У кого деньги есть, может купить, что захочет, а я — батрачка. Только совет тебе хороший дам.
— Посоветуйте, бабуся! Иисус и матерь божья вас наградят за меня, несчастного.
— Ступай-ка ты завтра к мастеру, поклонись ему в ноги, — может, он и сжалится. Ведь у него самого дети есть. Если бы ты один с голоду помирал, — это еще куда ни шло. А чтоб такая мелкота, детишки бедные, мучились и пищали с голоду — грешно это!