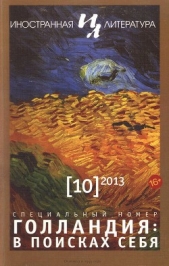Суета

Суета читать книгу онлайн
Повесть Юлия Крелина «Суета» описывает будни хирургического отделения районной больницы с момента его создания в течении 10 лет, рассказанные разными людьми, с разных точек зрения. Повествование идет от лица зав.отделением, хирургов, завхоза, главврача, консультанта и многих других. Личная судьба героев переплетается с работой, карьера — с философско-этическими проблемами, а жизнь вносит свои коррективы.
@Marina_Ch
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А эти оперируют как очумелые, будто за вечное блаженство борются. Их уже и так на руках носят по всему району. А верно, хочется, чтоб по улицам несли на раскладушках и ниц бы повергались все вокруг. Хирурги — показушники и экстраверты по своей природе. Герои, супермены. Поверхностны и пусты. Работа их понятна и ясна. С детства помню: кто всегда ясен — тот глуп. Хирургов в районе знают по именам, к ним приходят, с ними консультируются. Их можно просить. Им можно спасибо сказать, принести цветы…
А мы какая-то потаенная сторона их работы. Но что они без нас?
Больные приходят в больницу — перед ними хирург. Обследуют, ищут болезнь, подтверждают болезнь, решают, что делать, предлагают операции — всё хирурги. Судьбу решают — вершители, решатели хирурги. На операционном столе больной не видит нас, хотя мы работаем, — ждет, когда появится хирург. А потом наступает самое тяжелое, когда больной без сознания, когда наполовину он здесь, а немножко уже и т а м, когда не понимает он, кто перед ним, и надеется невесть на кого, когда не знает, на кого можно надеяться и надо ли, — перед ним мы, вокруг него мы, над ним нависаем мы, — тогда он не видит, не слышит, почти не чувствует. Увезли из реанимации, отверзлись очи на мир, оглянулся вокруг, осознал, что жив и жить, наверное, будет, начинает возносить благодарственные молебны и ищет, к кому их обратить, — перед ним опять хирург. Больной уходит, кланяется, говорит: «Спасибо, доктор», — а доктор этот опять хирург.
А меня нет. Я — подтекст. Обычная грамотность, умение водить глазами по строчкам в погоне за сюжетом не помогает проникнуть за строчку или под строчку. Нет меня.
Если же больные после операции не уходят из больницы — такие чаще всего до самого конца у нас. Но тогда не больные, тогда их родственники с нами говорят, и не «спасибо» мы слышим от них… Собственно, не родственники говорят, родственники молчат, говорим мы, жестикулируем, иногда сдержанно, иногда излишне ажитированно, но всегда неубедительно; оправдываемся, будто виноваты, утешаем. В этих случаях я выхожу из подполья, как черный демон из ночи. Вот и получается, все ночи — здесь. А я хочу другого.
«Женщина 36 лет хочет… Образование желательно высшее, но решительного значения не имеет, национальность значения не имеет, материально обеспечена сама, условий для жизни… хочу…»
И книги читать надоело. В книгах все всегда правы, как я на работе. Надоело читать про правильное. Не хочу учиться, хочу радоваться. Лежу спокойно. Темно, не сплю, сейчас опять начнется: «Светлана Петровна, Светлана Петровна!» Меня даже Светой здесь не зовут — все отняли, даже имя отдали мужику. Не Светлана здесь Света, а Святослав здесь Свет. Ничего не оставили женщине.
— Светлана Петровна!
— А? Я что, заснула?
— Да, еле добудилась. Устала за день, наверное? Светлана Петровна, из приемного звонят, вызывают.
— Слушаю. Что у вас там?
— Светлана Петровна, придите к нам. Панкреатит. Тяжелый очень. Диастаза восемь тысяч. Давление шестьдесят.
— Чего идти, только время терять. Тяжелый же. Быстрее везите сюда, а мы выходим навстречу. А то пока по переходу туда, обратно. Везите. Выходим.
Двадцать восемь лет. Длинный. Высокий, наверное, когда стоит. У нас все они длинные или короткие — мерка всем кровать. Не толстый. Глаза закрыты. Холодный пот. Хирурги говорят, сейчас оперировать нельзя. Ясно, что нельзя. А если б они сказали, что можно, мы б сказали — нельзя. Эти супермены всегда норовят бежать впереди человеческих возможностей. Если мы чуть улучшим его, может, появятся шансы и у них. И у него.
Пьет, наверное. Отчего же еще у молодого мужчины панкреатит будет? Полностью полетела поджелудочная железа, судя по состоянию. Если хоть немного сумеем поднять давление — пусть оперируют. Может, успеют. Дай бог.
Три часа беспрерывной возни с ним. Ну все делали!.. Так и не подняли давление.
Утром жена пришла. Приходится говорить, что шансов нет. Спрашиваю: пьет?
«Нет, — отвечает. — Только портвейн».
Двадцать восемь лет! Портвейна ему уже достаточно.
Жена просит пустить к нему. Нельзя. Реанимация. И мать не пущу. Им не легче будет. Я знаю. Мы-то привыкли все это видеть. Мама моя умирала, меня пустили, упросила. Тяжело. А сейчас они, мои коллеги, упрекают: уходящий же больной, говорят, сама ходила, а других не пускаешь. Да, ходила! А других не пущу. Я — другое дело. Я знаю, как тяжело. Попрощаться, видишь ли! Нелепый сантимент. Можешь помочь — иди. Если без меня пустят, голову оторву. Каждый из нас должен отчетливо знать и понимать, кому какую тяжесть нести. Глаза закрыть, видите ли! Это наш крест. Мы и закроем.
А потом позвонил завхоз. Свет. Он Свет, а я лишь Светлана. Попросил съездить кого-то проконсультировать. Сам, говорит, отвезу и привезу. Товарищи его, два брата, одинокие. Один заболел.
Вот он, Свет, ко мне хорошо относится. Другому и в голову не придет реаниматора на консультацию звать. А он понимает, что мы ориентируемся во всем организме получше хирургов. Те только одну точку видят — куда руку приложить. Нас же и за докторов не принимают, лишь за привратников у ворот вечного мира, диспетчеров того света. Кому — блаженство, кому — покой, а кому — вечные муки. Нам, реаниматорам, надо своим святым патроном сделать апостола Петра, а ключ от дома райского прибивать над входом в отделение. Как называли раньше трактиры: «Под сапогом», или «У трех дубов», или «Самовар и пара чая». А нам рядом с ключом написать: «У Петра» — и тут же официальное: «РАО (посторонним вход воспрещен)». Без расшифровки: реанимационно-анестезиологическое отделение — это не обязательно.
Свет прав, консультация — самое женское дело. Братьям около сорока… Зеркало хоть и в темноте за шкафом, но все равно видно: не ахти я после ночи выгляжу. Что ж вы хотите, моя ночная работа — работа, а не жизненные прелести, черт побери!
Опять просят пропустить.
— Да нельзя же. Говорю, нельзя! — Да пусть идут в конце концов. — Дайте им халат, пусть пройдут, если уж так хотят. Но я предупреждаю — «пожалеете».
«Женщина, 36 лет, усталая после работы, хочет…»
СКЛЕРОЗ
— Не жалей, не жалей чаю, стыдно напоминать тебе старый секрет!
— А дважды два будет четыре. Посмотрите, сколько я насыпал. — Федор обиделся, он постоянный чайханщик, и пока были только самые положительные отзывы на эту не должностную, но весьма полезную ипостась его деятельности.
Зав сидел в центре компании на обычном своем месте, как Лев в одной из сказок про Лиса, и правил бал.
— Яков Григорьевич, вы сладкий будете? — Я вообще не буду.
— Нет, так не пойдет! Вы нас подкармливаете, а чай с нами пить брезгуете. — Шутка была не из удачных, и сам Лев ее тут же осудил: — Я не прав. Так сказать, пардон за извинение. — Одна неудачная шутка потянула за собой следующую — такова логика пустого звонарства.
Яков Григорьевич тихо улыбнулся.
— Может, немножко, Яков Григорьевич, за компанию? — почти нежно спросил Руслан, с большим почтением относившийся к деду.
— За компанию и удавиться можно. Налейте немножечко. Спасибо.
— Вы ведь из тех времен, когда пили только крепкий чай. Федя, не ударь в грязь лицом!
— Пожалуй, из тех времен, когда пили душистый чай. А дожил до времени, когда очень крепкий боюсь. Хотя чего мне бояться, мне уже можно ничего не бояться. И все-таки средний, деточка, не очень крепкий, не очень.
— Яков Григорьевич, бутербродик? Ваш же. А?
— Если продолжить прежний стиль острот: ешьте, ешьте, не отравленные. — Дед улыбнулся, словно просил извиниться за подхваченный стиль дурных шуток. — Я свое уже съел. А это моя старушка сделала вам.
— Да она нас и не знает.
— Слава Богу, не видела, но слышала про вас. Тьфу-тьфу, не сглазить бы — пока не видела.
Все засмеялись.
— Мы такие хорошие, а встречаться с нами никто не хочет.
Много ли человеку надо — прошла хорошо операция, гогочут, ржут, шутят, хоть и не изысканно, зато смешно. В шутке главное — повеселиться, а не интеллект проявить. Все довольны, пьют чай, куражатся, восстанавливают силы. Анекдоты травят. У них это называется часом фольклора. Анекдот — маскировка, а то и замена собственного мышления; так иногда отсутствие собственной мысли прячется за вычитанный афоризм. Когда наступает час анекдота, обрывается нить осмысленного разговора. Бывает, конечно, что анекдоты выстраиваются в завершенную логическую систему, но редко. Чаще — искрящийся фейерверк банальностей. Сейчас за весельем этих витязей можно разглядеть усталость, желание не показать друг другу, а может, и самим себе свои непохожие личные заботы. В общем гомоне не сразу заметили дежурную сестру. Она возникла словно джинн из дыма, клочьями висевшими вокруг собеседников.