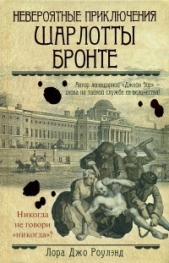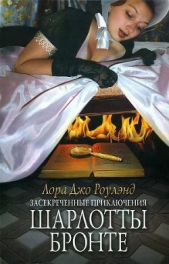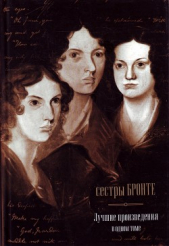Городок

Городок читать книгу онлайн
Роман известной английской писательницы Ш. Бронте (1816–1855) «Городок» — это история молодой англичанки Люси Сноу, рано осиротевшей, оказавшейся в полном одиночестве, без средств к существованию. Героине приходится преодолеть много трудностей, столкнуться с лицемерием и несправедливостью, пережить тяжелые разочарования, утрату иллюзии и крушение надежд на счастье.
В широком плане «Городок» — роман о становлении личности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Росту в ней было фута три, при совершенной бесформенности, худые руки, одна на другой, сжимали золотой набалдашник посоха из слоновой кости, похожего на скипетр. Широкое лицо не возвышалось над плечами, но торчало перед грудью, а шеи не было вовсе. На черты ее легла печать столетней старости, а еще старше казались ее глаза — злые, настороженные, под седыми густыми бровями и синеватыми веками. Как сурово она на меня поглядела, с каким угрюмым недоброжелательством!
Ее укрывало платье из ярко-голубой парчи, затканной крупными шелковыми листьями, а поверх него — шаль с пышной каймою, такая большая, что разноцветная опушка волочилась по полу. Но особенно поражали взгляд ее драгоценности — в ушах ослепительно сверкали длинные серьги, конечно, не фальшивые и не взятые напрокат, а на тощих пальцах красовались толстые золотые кольца с жемчугами, изумрудами и рубинами. Горбатая карлица была разодета, словно языческая царица.
— Que me voulez-vous? [396] — прохрипела она скорей стариковским, чем старушечьим голосом; и то сказать — на подбородке у нее пробивались седые волоски.
Я вручила ей корзину и передала поздравленье.
— И это все? — спросила она.
— Все, — отвечала она.
— Вот уж стоило труда, — проворчала она. — Верните это мадам Бек, да скажите, что я сама могу купить себе фруктов, коли мне захочется, et quant a ses felicitations, je m'en moque! [397] — И сия любезная дама поворотила мне спину.
Не успела она отвернуться, грянул гром и вспышка молнии озарила будуар и гостиную. Все, казалось, разыгрывалось по всем правилам волшебной сказки. Путник, попавший в очарованный замок, услышал за окном грохот колдовской бури.
Но что прикажете думать о мадам Бек? Выбор знакомств ее показался мне странен. Она складывала свои дары к непонятной святыне, а злобные повадки ее идола не предвещали добра. Меж тем мрачная Сидония, дрожа как паралитик, стуча драгоценным посохом по мозаике паркета и глухо ворча, удалилась.
Хлынул дождь, ниже надвинулся небесный полог; тучи, еще только что такие красные, вдруг смертельно побледнели, словно от ужаса. Хоть я и похвалялась выше своим бесстрашием, мне вовсе не хотелось теперь выходить под ливень и мокнуть. К тому же молния сверкала ослепительно, гром гремел совсем рядом; над Виллетом разразилась ужасная гроза. Расщепленные стрелы пронзали обрушивавшуюся стеной водную лавину, красные зигзаги прочерчивали весь свод, белый, как сталь, и лило, лило, словно разверзлись вышние хляби.
Покинув хмурую гостиную мадам Уолревенс, я направилась к холодной лестнице. На площадке стояла скамья, и я на нее опустилась. Кто-то скользнул по верхней галерее; это оказался старый священник.
— Мадемуазель, вам не следует тут сидеть, — сказал он, — наш благодетель опечалится, если узнает, какой прием оказали незнакомому пришельцу у него в доме.
И он столь истово принялся меня уговаривать вернуться в гостиную, что мне оставалось лишь подчиниться, чтобы не обидеть его. Задняя комната была уютней и лучше обставлена, чем передняя, большая комната, и старик провел меня прямо туда. Он приоткрыл ставни, и я увидела строгую комнатушку, похожую скорей на часовню, чем на будуар, и словно предназначенную для воспоминаний и сосредоточенных раздумий, а не для приятностей отдыха и праздных развлечений досуга.
Святой отец сел, будто собирался занять меня беседой, однако разговаривать не стал, а вместо этого открыл какую-то книгу, упер взгляд в страницу и зашептал не то литанию, не то молитву. Желтые вспышки молний золотили его лысину, а весь он оставался в глубокой, лиловой тени. Он сидел как изваянье. Казалось, за своими молитвами он совсем позабыл обо мне и поднимал глаза лишь тогда, когда особенно яркий разряд либо особенно громкий удар грома возвещали об опасности. Да и тогда во взоре его угадывался не испуг, но благоговейный страх. Я тоже испытывала благоговейный ужас, но не так ему предавалась, и мысли мои свободно блуждали.
Мне сдавалось, по правде говоря, что я узнаю отца Силаса, перед которым склоняла колени в храме Бегинок. Я не могла решить этого с уверенностью, ибо видела тогда отца Силаса в сумраке и сбоку, однако сходство я находила без сомненья, мне сдавалось, что и голос похож. Неожиданно вскинув на меня глазами, он дал мне понять, что заметил мой интерес к его особе. Тогда я принялась разглядывать комнату, тоже необъяснимо затронувшую мое воображенье.
Подле распятия из старой слоновой кости, украшенного причудливой резьбой, на темно-красном налойчике, как водится, помещались роскошно переплетенный требник и эбеновые четки, а повыше висел портрет, который я уже и прежде заметила, тот самый, что дрогнул, сдвинулся и исчез, впуская духов. Тогда, не разглядев, я приняла было его за образ божьей матери, теперь же, на свету, я увидела, что это женщина в монашеском облаченье. Лицо, хоть и некрасивое, было прелестно, бледное, юное лицо, затененное печалью или болезнью. Я уже сказала, что красивым оно не было, да и прелестно оно было скорей беззащитностью и томной своей покорностью. Но я долго вглядывалась в эти черты и не могла отвести взгляд.
Старик священник, сперва показавшийся мне столь глухим и разбитым, оказывается, еще вполне владел своими органами чувств, ибо, поглощенный книгой, не поднимая глаз и даже, насколько я могла заметить, не поворачивая головы, он заметил, куда направлено мое внимание, и, четко и тихо выговаривая слова, уронил следующие четыре замечания:
— Она была горячо любима.
— Она посвятила себя господу.
— Она умерла молодой.
— Ее все еще помнят, ее оплакивают.
— Кто оплакивает? Эта старушка, мадам Уолревенс? — спросила я, тотчас вообразив, что в безутешном горе кроется причина неприветливости сей почтенной особы.
Смутно улыбнувшись, святой отец покачал головою.
— Нет, какое, — отвечал он. — Как бы ни любила досточтимая дама своих внуков, как бы ни горевала об утрате, но тяжко оплакивает Жюстин Мари до сих пор не кто иной, а суженый ее, которому Судьба, Вера и Смерть втройне отказали в блаженстве союза.
Мне показалось, что он ждет от меня расспросов, а потому я и спросила, кто же это оплакивает Жюстин Мари. В ответ я услышала целую романтическую повесть, рассказанную довольно впечатляюще под рокот стихающей грозы. Правда, признаюсь, она бы меня еще более впечатлила, будь в ней поменьше французских красот, воздыханий в духе Жан-Жака Руссо и смакования частностей, зато побольше простоты и безыскусственности. Но преподобный отец, очевидный француз по рождению и воспитанию (я все более убеждалась в сходстве его с моим духовником), был истинный католик; подняв глаза, он вдруг взглянул на меня с коварством, какого едва ли приходилось ожидать от такого старика. И все же, думаю, у него было доброе сердце.
Герой его повести, прежний его ученик, которого именовал он своим благодетелем, любил, оказывается, эту бледную Жюстин Мари, дочь богатых родителей, во времена, когда собственные его виды позволяли выбирать невесту в обеспеченной среде. Но отец его, богатый банкир, разорился и умер, оставя в наследство сыну лишь долги и позор. О Мари ему теперь и думать было нечего. Старая ведьма, которую я видела, мадам Уолревенс, противилась их союзу с той лютостью нрава, которою судьба часто награждает калек. Бедной Мари недостало ни хитрости водить жениха за нос, ни сил остаться ему верной. Она отказала первому искателю, но, отказавши и второму, с тугим кошельком, ушла в монастырь и там, послушницей, умерла.
Преданное сердце, ее обожавшее, кажется, до сих пор терпело муки, и история этой любви и страданий была преподнесена мне в таких словах, что даже я, ее слушая, растрогалась.
Вскоре после смерти Жюстин Мари ее семья тоже разорилась; отец, известный как ювелир, на самом деле участвовал в биржевых операциях, его втянули в какое-то мошенничество, и оно окончилось разоблачением и крахом. Тоска по упущенным барышам и стыд от бесчестья свели его в могилу. Горбунья-мать и горькая вдова остались без всяких средств, и голодная смерть их ожидала. Однако отвергнутый жених покойной дочери, прослышав об их бедственном положении, с удивительной преданностью поспешил им на выручку. За гордыню и заносчивость он отплатил чистейшей добротой — призрел их, накормил и обласкал, словом, позаботился о них так, как редкий сын мог бы позаботиться. Мать — женщина, в сущности, добрая — умерла, благословляя его; самодурная, безбожная, злая старуха бабка еще живет на его самоотверженном попечении. Ее, сгубившую его надежды, разбившую ему жизнь, одарившую его вечной тоской и унылым одиночеством взамен любви и семейного счастья, он нежит и холит с почтительностью примерного сына к преданной матери. «Он поместил ее в этом доме и, — продолжал священник с неподдельными слезами на глазах, — здесь же дал кров и мне, старому своему наставнику, и Агнессе, престарелой служанке, ухаживавшей за ним еще в детстве. На наше содержание и на другие добрые дела, я знаю, он тратит три четверти своего жалованья, оставляя лишь четверть на хлеб и прочие скромные нужды. Из-за этого он и жениться не может, он посвятил себя господу и ангелу-невесте, будто он сам священник, вроде меня».