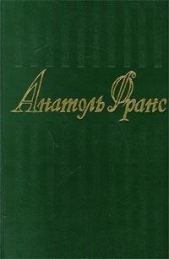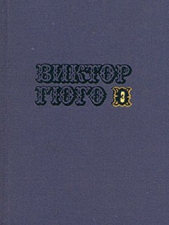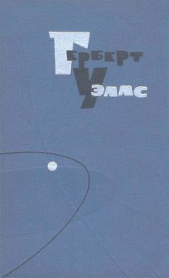Собрание сочинений в 8 томах. Том 4. Современная история

Собрание сочинений в 8 томах. Том 4. Современная история читать книгу онлайн
В четвертый том собрания сочинений вошло произведение «Современная история» («Histoire Contemporaine») — историческая хроника с философским освещением событий. Как историк современности, Франс обнаруживает проницательность и беспристрастие ученого изыскателя наряду с тонкой иронией скептика, знающего цену человеческим чувствам и начинаниям.
Вымышленная фабула переплетается в этих романах с действительными общественными событиями, с изображением избирательной агитации, интриг провинциальной бюрократии, инцидентов процесса Дрейфуса, уличных манифестаций. Наряду с этим описываются научные изыскания и отвлеченные теории кабинетного ученого, неурядицы в его домашней жизни, измена жены, психология озадаченного и несколько близорукого в жизненных делах мыслителя.
В центре событий, чередующихся в романах этой серии, стоит одно и то же лицо — ученый историк Бержере, воплощающий философский идеал автора: снисходительно-скептическое отношение к действительности, ироническую невозмутимость в суждениях о поступках окружающих лиц.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Можно войти. Квартира пустует.
Сперва нежилой вид огромных комнат и новые обои расхолодили их чувства, и они удивлялись, что испытывают такую отчужденность по отношению к этим некогда столь близким предметам.
— Вот здесь кухня…— сказала привратница.— Здесь столовая, здесь гостиная.
Чей-то голос крикнул со двора:
— Мадам Фалампен!
Привратница высунула голову в одно из окон гостиной, затем извинилась и, кряхтя, расслабленной походкой спустилась с лестницы.
Брат и сестра отдались воспоминаниям.
Перед ними начали возникать неповторимые часы, невыразимо прелестные дни детства.
— Вот наша столовая,— сказала Зоя.— Буфет стоял здесь, у стены.
— Буфет красного дерева, по выражению отца, «потрепанный долгими странствованиями» в ту пору, когда министр, ставленник декабрьского переворота, гонял бедного профессора с семьей и обстановкой с севера на юг, с востока на запад. Здесь, искалеченный и хромоногий, буфет отдыхал несколько лет.
— Вот фаянсовая печь в нише.
— Трубу сменили.
— Ты думаешь?
— Да, Зоя. Наша была увенчана головой Юпитера Трофония {263}. В те отдаленные времена у печников из переулка Дракона было в обычае украшать фаянсовые трубы изображением Юпитера Трофония.
— Ты уверен?
— Неужели ты не помнишь этой головы с бородой клином и с диадемой?
— Нет.
— Впрочем, это не удивительно. Ты всегда была равнодушна к форме предметов. Ты ничего не замечаешь.
— Я наблюдательнее тебя, мой бедный Люсьен. Это ты ничего не замечаешь. Недавно, когда Полина завила себе волосы, ты даже внимания не обратил. Если бы не я…
Зоя не докончила фразы. Она обводила взглядом своих зеленых глаз пустую комнату и поворачивала во все стороны кончик острого носа.
— Вон в том углу подле окна сидела мадемуазель Верпи, положив ноги на грелку. По субботам был день портнихи. Мадемуазель Верпи не пропускала ни одной субботы.
— Мадемуазель Верпи,— вздохнул Люсьен.— Сколько лет было бы ей теперь? Она была уже старухой, когда мы были детьми. Она рассказывала нам тогда историю о пачке спичек. Я запомнил ее и могу пересказать слово в слово: «Это было тогда, когда ставили статуи на мосту Святых отцов. Стоял такой свирепый мороз, что пальцы леденели. Возвращаясь домой с покупками, я засмотрелась на рабочих. Корзинка висела у меня на руке. Какой-то хорошо одетый господин сказал мне: „Мадемуазель, вы горите!“ Тут я чувствую запах серы и вижу, что у меня корзинка дымит. Загорелась моя пачка спичек в шесть су». Так рассказывала это приключение мадемуазель Верпи,— добавил г-н Бержере.— Она рассказывала его часто. Быть может, оно было самым значительным во всей ее жизни.
— Ты пропустил самую важную часть рассказа, Люсьен. Вот в точности слова мадемуазель Верпи: «Какой-то хорошо одетый господин сказал мне: „Мадемуазель, вы горите!“ Я ответила ему: „Идите своей дорогой и не беспокойтесь обо мне“.— „Как вам будет угодно, мадемуазель“. Тут я чувствую запах серы…»
— Ты права, Зоя; я исказил текст и опустил существенное место. Своим ответом мадемуазель Верпи, которая была горбата, показала, что она девица осторожная и добродетельная. Эту черту не следовало забывать. Да и вообще, мне помнится, она была особой чрезвычайно целомудренной.
— Покойная мама страдала манией починок. Сколько у нас в доме перечинили всякой всячины!
— Да, она была рукодельница. Но особенно очаровательно было в ней то, что перед тем, как сесть за вышивку в столовой, она ставила рядом с собой на краю стола, в самом освещенном месте, фаянсовый кувшин с пучком левкоев или маргариток или же блюдо с плодами, лежащими на листьях. Она говорила, что смотреть на румяные яблоки так же приятно, как и на розы; я не помню, чтобы кто-либо больше ее ценил красоту персика или грозди винограда. Когда ей показывали в Лувре картины Шардена {264}, она признавала, что они очень хороши. Но чувствовалось, что она предпочитает свои натюрморты. И с какой убежденностью она говорила: «Смотри, Люсьен, может ли что-либо быть красивее этого пера, выпавшего из крыла голубя!» Не думаю, чтобы кто-нибудь любил природу с большей искренностью и простотой.
— Бедная мама! — вздохнула Зоя.— При всем этом она отличалась удручающим вкусом в отношении туалетов. Однажды она выбрала мне у Пти-Сен-Тома голубое платье. Цвет назывался «голубенький с искрой» и был просто ужасен. Это платье было несчастьем моего детства.
— Ты никогда не была кокеткой.
— Вы полагаете? Так разубедитесь. Мне доставило бы большое удовольствие быть хорошо одетой. Но надо было экономить на туалетах старшей сестры, чтобы шить форменные куртки маленькому Люсьену. Это было необходимо.
Они перешли в узкую комнату, походившую на коридор.
— Кабинет отца,— сказала Зоя.
— Его как будто разделили перегородкой на две части? Мне кажется, он был больше.
— Нет, он был такой же, как теперь. Вот здесь стоял папин письменный стол. А над ним висел портрет господина Виктора Леклера {265}. Почему ты не сохранил этой гравюры, Люсьен?
— Как! Неужели здесь умещались беспорядочные толпы его книг, целые племена поэтов, философов, историков? Еще совсем ребенком я прислушивался к тому, как они молчали, оглушая мне уши жужжанием славы. Наверное, такое именитое сборище раздвигало стены. У меня осталось воспоминание, как об обширном зале.
— Комната была набита битком. Отец запрещал нам наводить порядок в его кабинете.
— Так, стало быть, здесь работал наш отец, сидя в старом красном кресле со своей кошкой Зобеидой, лежавшей на подушке у его ног! Отсюда, значит, глядел он на нас со своей мягкой улыбкой, которую сохранил и во время болезни, до последнего часа. Я видел, как он шел навстречу смерти, с такой же тихой улыбкой, с какой шел навстречу жизни.
— Уверяю тебя, Люсьен, ты ошибаешься. Отец не сознавал, что умирает.
Господин Бержере задумался на минуту и затем сказал:
— Странно: в моих воспоминаниях он представляется мне не усталым и убеленным сединой, а совсем молодым, таким, как он был в моем раннем детстве. Я представляю его себе гибким и стройным, с черными взъерошенными волосами. Эти пряди волос, словно развеянные ветром, были вполне уместны на головах энтузиастов тысяча восемьсот тридцатого и тысяча восемьсот сорок восьмого годов. Я отлично знаю, что щетка играла тут главную роль. Но тем не менее казалось, что они живут среди бурь на горных вершинах. Мысли их были возвышенней и благороднее наших. Отец верил в наступление социальной справедливости и всеобщего мира. Он возвещал торжество республики и гармоничное возникновение объединенных государств Европы. Какое жестокое разочарование испытал бы он, если бы вернулся к нам!
Господин Бержере продолжал говорить, а мадемуазель Зои уже не было в кабинете. Он последовал за ней в пустую и гулкую гостиную. Тут они оба вспомнили кресло и диван гранатового цвета, с помощью которых они в своих детских играх возводили стены и крепости.
— О! Осада Дамиеты! {266} — воскликнул г-н Бержере.— Помнишь, Зоя? Мама, не любившая, чтобы что-либо пропадало зря, собирала серебряные бумажки от шоколада. Однажды она подарила мне целый ворох, который я принял как роскошнейший подарок. Я смастерил из них каски и кирасы, наклеив их на листы из старого географического атласа. Как-то вечером к нам пришел обедать двоюродный брат Поль; я дал ему доспехи сарацина, а сам облекся в доспехи Людовика Святого. И те и другие должны были представлять собою стальную броню. Собственно говоря, ни сарацины, ни христианские бароны не носили такого вооружения в тринадцатом веке. Но подобное обстоятельство нас не смущало. И я взял Дамиету.
Этот случай напоминает мне о самом жестоком унижении, испытанном мною в жизни. Овладев Дамиетой, я взял в плен Поля, связал его прыгалкой и толкнул его с такой силой, что он упал носом вниз и, несмотря на свое мужество, стал испускать отчаянные крики. Мама прибежала на шум и, увидев на полу связанного и плачущего Поля, подняла его, отерла ему слезы, поцеловала его и сказала мне: «Как тебе не стыдно, Люсьен, бить маленького!» И это была правда: кузен Поль, и теперь не очень рослый, был тогда совсем крошкой. Я не возразил, что так поступают на войне. Я не возразил ничего и был глубоко пристыжен. И мне стало стыдно вдвойне, когда кузен с плачем, но великодушно сказал: «Я не ушибся». О, дивная гостиная наших родителей! — вздохнул г-н Бержере.— Постепенно я узнаю ее под этой новой оклейкой. Как уютны были наши дрянные обои с разводами! Какую сладостную тень бросали ужасные занавески из темно-красного репса и как хорошо они сохраняли тепло! На камине Спартак, скрестив руки, метал с верхушки часов негодующий взгляд. Его цепи, которые я дергал от безделья, однажды остались у меня в руке. Чудесная гостиная! Мама иногда звала нас туда, когда принимала старых друзей. И мы шли поцеловать мадемуазель Лалуэт. Ей было за восемьдесят. Щеки ее были какие-то землистые и мшистые. С подбородка свисала заплесневелая борода. Между почерневшими губами торчал большой желтый зуб. В силу какого наваждения образ этой маленькой безобразной старушонки обладает теперь для меня притягательным очарованием? Какой магнит тянет меня воскрешать этот странный и далекий образ? Мадемуазель Лалуэт содержала себя и своих четырех кошек на пожизненную пенсию в полторы тысячи франков, из коих тратила половину на издание брошюр о Людовике Семнадцатом {267}. Она всегда носила с собой в сумке дюжину таких брошюр. Эта добрейшая девица страстно стремилась доказать, что дофин ускользнул из Тампля в чреве деревянного коня. Помнишь, Зоя, как она однажды потчевала нас завтраком в своей комнате на улице Вернэй. Там под вековым слоем грязи таились чудесные богатства: золотые тавлинки и вышивки.