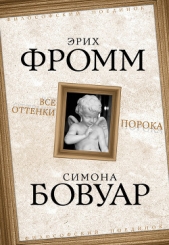Мандарины

Мандарины читать книгу онлайн
«Мандарины» — один из самых знаменитых романов XX в., вершина творчества Симоны де Бовуар, известной писательницы, философа, «исключительной женщины, наложившей отпечаток на все наше время» (Ф. Миттеран). События, описанные в книге, так или иначе связаны с крушением рожденных в годы Сопротивления надежд французской интеллигенции. Чтобы более полно представить послевоенную эпоху, автор вводит в повествование множество персонажей, главные из которых — писатели левых взглядов Анри Перрон и Робер Дюбрей (их прототипами стали А. Камю и Ж.-П. Сартр). Хотя основную интригу составляет ссора, а затем примирение этих двух незаурядных личностей, важное место в сюжете отведено и Анне, жене Дюбрея — в этом образе легко угадываются черты самой Симоны де Бовуар. Многое из того, о чем писательница поведала в своем лучшем, удостоенном Гонкуровской премии произведении, находит объяснение в женской судьбе как таковой и связано с положением женщины в современном мире. Роман, в течение нескольких десятилетий считавшийся настольной книгой западных интеллектуалов, становится наконец достоянием и русского читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я купил это для вас!
Под розовой бумагой я увидела большой белый цветок с необычайно сильным запахом. Взяв цветок, я прижала его к губам и, рыдая, бросилась на кровать.
— Не надо его есть, — сказал Льюис. — Разве во Франции едят цветы?
Да, кто-то умер: веселая женщина, со смехом просыпавшаяся каждое утро, розовая и теплая. Я коснулась зубами цветка, мне хотелось раствориться в его запахе, умереть совсем. Но я заснула живой, и на рассвете Льюис проводил меня до угла широкой авеню: мы решили проститься там. Он подозвал такси, я села, хлопнула дверца, такси свернуло за угол. Льюис исчез.
— Это ваш муж? — спросил шофер.
— Нет, — ответила я.
— У него был такой печальный вид!
— Он мне не муж.
Льюис был печален, а я! Но то была уже совсем иная печаль; каждый остался в одиночестве. Льюис один возвращался в пустую комнату. Я одна садилась в самолет.
Двадцать восемь часов — это мало, чтобы перескочить из одного мира в другой, чтобы сменить одно тело на другое. Я все еще пребывала в Чикаго, прижимая пылающее лицо к цветку, когда мне вдруг улыбнулся Робер; я тоже улыбнулась, взяла его за руку и стала рассказывать. В письмах я о многом ему писала. Между тем, едва открыв рот, я почувствовала, что вызываю чудовищное стихийное бедствие: такие живые, дни, прожитые мной недавно, внезапно окаменели; у меня за спиной осталась лишь глыба застывшего прошлого; улыбка Льюиса приобрела неподвижность бронзовой гримасы. Я была тут, разгуливала по улицам, которых никогда не покидала, прижавшись к Роберу, с которым никогда не расставалась, и подробно рассказывала историю, ни с кем не случившуюся. Конец мая месяца был таким голубым, на всех перекрестках продавали ландыши, на зеленом брезенте тележек торговцев зеленью лежали пучки спаржи: на этом континенте ландыши, спаржа представлялись великими сокровищами. Женщины носили хлопчатобумажные юбки веселых расцветок, но до чего же их кожа и волосы казались мне тусклыми! Автомобили, встречавшиеся на узких шоссе, были старыми, маленькими, увечными, а какой жалкий товар лежал на выцветшем бархате витрин! Ошибки быть не могло: эта скудость возвещала мне, что я возвратилась к действительности. И вскоре я получила еще более неоспоримое свидетельство тому: ощущение забот. Робер говорил со мной только обо мне, избегая моих вопросов: все явно шло не так, как ему хотелось бы. Бедность, беспокойство: сомнений нет, я дома.
Уже на следующий день мы уехали в Сен-Мартен; стояла теплая погода, и мы расположились в саду. Как только Робер заговорил, я сразу поняла, что не ошиблась: на сердце у него было тяжело. Коммунисты начали против него кампанию, которой он опасался год назад: в числе прочего они опубликовали в «Анклюм» статью, которая задела его за живое. Меня она тоже покоробила. Робера изобразили старым идеалистом, неспособным примениться к суровым требованиям настоящего времени; я же считала, что он скорее сделал чересчур много уступок коммунистам и отказался от слишком многого из своего прошлого.
— Это нечестно, — сказала я. — Никто о вас так не думает, даже сам автор статьи.
— Ах, не знаю! — пожав плечами, ответил Робер. — Иногда я говорю себе, что действительно стал стар.
— Ничего подобного! — возразила я. — Вы не были старым, когда я уезжала, и обещали мне не меняться.
Он улыбнулся:
— Скажем так: моя молодость устарела.
— Вы ничего не ответили им?
— Нет. Слишком многое пришлось бы сказать. А момент неподходящий. После 5 мая многие из так называемых сочувствующих воспользовались
поражением коммунистов, чтобы отвернуться от них. МРП {103}торжествовала, де Голль проявлял активность, проамериканская партия выжидала; более чем когда-либо левым следовало сплотить свои ряды; ввиду октябрьского референдума и предстоящих затем выборов {104}самое лучшее, что могло сделать СРЛ, это приостановить свою работу. Однако такое решение далось Роберу нелегко. По вине коммунистов нельзя было продолжать перегруппировку левых сил, не нанося им ущерба: он упрекал коммунистов за сектантство. И если запрещал себе высказываться публично, то в своем кругу не стеснялся: за последние два дня он не раз давал волю своему гневу. Ему явно приносила облегчение возможность поговорить со мной. И я признавалась себе, что, вероятно, не во мне лично он нуждался, однако ему безусловно была полезна женщина, чье место я занимала: несомненно то было мое место, мое истинное место на земле.
Но тогда почему я не находила себе покоя? Откуда эти слезы? Стояла редкой красоты весна, я бродила по лесу, я была в добром здравии, у меня никто ничего не отнимал, но временами я останавливалась, мне хотелось стонать от боли, словно я все потеряла. «Льюис!» — звала я тихонько. А в ответ молчание! Еще недавно от заката до зари, от зари до глубокой ночи мне дарованы были его дыхание, его голос, его улыбка, а теперь — ничего; существовал ли он еще?
Я вслушивалась: ни звука; я всматривалась: никакого следа. Я сама себя не понимала. «Я плачу, — думала я, — а между тем я здесь: значит, я недостаточно люблю Льюиса? Я здесь и все-таки плачу: может, я недостаточно люблю Робера?» Меня восхищают люди, дающие жизни окончательные определения. «Плотская любовь — ничто», — заявляют они или же наоборот: «Не плотская любовь — ничто». Однако, встретив Льюиса, я по-прежнему была привязана к Роберу; а присутствие Робера, каким бы значимым оно для меня ни было, не восполняло отсутствия Льюиса.
Во второй половине дня в субботу приехали Надин с Ламбером. Она сразу же с подозрительным видом стала расспрашивать меня:
— Тебе, наверное, было очень весело, если ты настолько продлила свое пребывание там, ты ведь никогда не меняешь своих планов.
— Как видишь, при случае я их меняю.
— Странно, что ты надолго задержалась в Чикаго. Говорят, там ужасно.
— Это неверно.
За три месяца Надин сделала вместе с Ламбером несколько репортажей; жила она у него и говорила с ним с насмешливой, но подчеркнутой нежностью. Довольная своей жизнью, она со скрытым недоброжелательством внимательно присматривалась к моей. Я успокаивала ее как могла рассказами о путешествии. Ламбер показался мне более умиротворенным и веселым, чем до моего отъезда. Они провели уик-энд в павильончике. Я оборудовала там кухню и провела телефон, чтобы Надин чувствовала себя независимой, но не оторванной от дома; ей до того все понравилось, что в воскресенье вечером она мне объявила о своем намерении провести в Сен-Мартен весь отпуск.
— Ты уверена, что Ламбер останется доволен твоим решением? — спросила я. — Он не испытывает большой любви ни к твоему отцу, ни ко мне.
— Прежде всего он вас достаточно любит, — резко возразила она. — А если ты сама боишься, что мы надоедим тебе, успокойся, мы будем сидеть у себя.
— Ты прекрасно знаешь, что я всегда рада тебе здесь. Я только опасалась, что вам будет не хватать уединения. Предупреждаю, между прочим, что из моей комнаты слышно все, что говорят в саду.
— Ну и что? Какое мне до этого дело? Я-то не скрытничаю, не окружаю себя тайной.
И верно, Надин, столь ревностно охранявшая свою независимость, столь нетерпимая к любой критике или совету, охотно выставляла свою жизнь напоказ; безусловно, то был способ доказать свое превосходство.
— Мама уверяет, что тебе осточертеет здесь в отпуске, это правда? — спросила она, садясь в седло мотоцикла.
— Вовсе нет, — ответил Ламбер.
— Вот видишь, — торжествующе сказала она. — Ты всегда все усложняешь. Прежде всего Ламберу доставляет удовольствие делать то, о чем я его прошу, он хороший мальчик, — сказала она, ероша его волосы. Обняв Ламбера за талию, она ласково положила подбородок на его плечо, и машина тронулась.
Через четыре дня после этого из заметки в «Эспуар» мы узнали, что отец Ламбера погиб, выпав из вагона; по телефону Надин уныло сообщила, что
Ламбер отбыл в Лилль и что она не приедет на уик-энд; я не стала задавать ей вопросов, однако мы терялись в догадках. Может, старик покончил с собой под впечатлением от судебного процесса? Или кто-то разделался с ним? В течение нескольких дней мы строили предположения, а потом у нас появились другие заботы. Скрясин устроил встречу Робера с советским чиновником, только что преодолевшим «железный занавес» специально для того, чтобы разоблачить перед Западом преступные деяния Сталина; накануне свидания Скрясин явился к нам, он привез документы, которые хотел вручить непосредственно Роберу, чтобы он ознакомился с ними до завтрашнего дня. Мы почти перестали с ним встречаться, потому что каждый раз ссорились, но в то утро он старательно избегал щекотливых тем и быстро уехал; мы расстались друзьями. Робер тут же принялся листать толстую пачку бумаг: некоторые были написаны по-французски, многие по-английски, а кое-какие по-немецки.