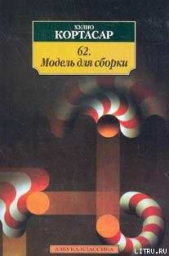Игра в классики

Игра в классики читать книгу онлайн
В некотором роде эта книга – несколько книг…
Так начинается роман, который сам Хулио Кортасар считал лучшим в своем творчестве.
Игра в классики – это легкомысленная детская забава. Но Кортасар сыграл в нее, будучи взрослым человеком. И после того как его роман увидел свет, уже никто не отважится сказать, что скакать на одной ножке по нарисованным квадратам – занятие, не способное изменить взгляд на мир.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(—76)
101
Приподняв голову, Пола сразу же видела календарь: розовая корова на зеленом поле, а в глубине – фиолетовые горы под синим небом, четверг – 1, пятница – 2, суббота – 3, воскресенье – 4, понедельник – 5, вторник – 6, Saint Mamert, Sainte Solange, Saint Achille, Saint Servais, Saint Boniface, lever 4 h. 12, coucher 19 h. 23, lever 4 h. 10, coucher 19 h. 24, lever coucher, lever coucher, levercoucher, coucher, coucher, coucher [ 301].
Прижавшись лицом к плечу Оливейры, она поцеловала кожу, дышащую потом, табаком и сном. Рукой, словно издалека, из свободы, она гладила его живот, проводила по ногам, играла пушистыми волосками – запускала в них пальцы и тихонько дергала, чтобы Орасио рассердился и, шутя, укусил ее. На лестнице кто-то шаркал тапочками, Saint Ferdinand, Sainte Pétronille, Saint Fortuné, Sainte Blandine, un, deux, un, deux [ 302], правая, левая, правая, левая, хорошо, плохо, хорошо, плохо, вперед, назад, вперед, назад. Рука бродила по спине, медленно ползла вниз, как паук перебирает лапками: один палец, другой, третий, Saint Fortune, Sainte Blandine, палец сюда, этот – сюда, этот сверху, тот снизу. Ласка проникла в нее медленно, словно из другого измерения. Это была уже роскошь, surplus [ 303], ну-ка, куснуть тихонько, мягко преодолеть притворные колебания, упереться кончиком языка в кожу, медленно впиться ногтем, прошептать: coucher 19 h. 24, Saint Ferdinand. Пола приподняла голову и посмотрела на Орасио – глаза его были закрыты. Она подумала, таков ли он и со своей подругой, матерью мальчика. Он не любил говорить о той, другой, словно требуя уважения – не упоминать ее без крайней необходимости. Когда она спросила его, двумя пальцами приоткрыв ему глаз и яростно впиваясь поцелуем в рот, который отказывался отвечать, единственным утешением было молчание, вот и лежать так, друг против друга, слушая, как дышит другой, время от времени прогуливаясь рукой или ногою по телу, что дышало рядом, ненастойчивые прогулки, без последствий, остатки ласк, растраченных в постели, в воздухе, призраки поцелуев, крошечные личинки ароматов или привычек. Нет, с подругой он этого не делал, такое могла понять только Пола, только она умела так подчиняться его прихотям. Просто поразительно, до чего она была по нему. Даже когда она жаловалась, потому что однажды она стала жаловаться, он решил было освободиться, да поздно, петля затянулась, и его мятеж только сделал еще глубже и пронзительнее наслаждение и боль, двойное недоразумение, которое им надо было преодолеть, потому что была ложь, нельзя же, в конце концов, чтобы одни и те же руки обнимали, ну конечно, может быть, совсем иначе, если только, ну да, совсем иначе.
(—144)
102
Вонг, муравей по натуре, раскопал наконец в библиотеке Морелли экземпляр «Die Vervirrungen des Zoglings Torless» Музиля с дарственной надписью, в котором одно место было жирно подчеркнуто:
– Что это за вещи, которые кажутся мне странными? Самые обычные. Прежде всего – неодушевленные предметы. Что мне кажется в них странным? Нечто, чего я не знаю. Именно это! Откуда, черт подери, я черпаю знание этого «нечто»? Я чувствую, что оно там, оно существует. И вызывает у меня ощущение, будто оно хочет высказаться. Я злюсь, как человек, который силится читать по сведенным губам паралитика и не может. Такое впечатление, будто у меня есть плюс еще одно к обычным пяти чувство, но только оно совершенно не развито, оно есть, но не действует. Для меня мир полон безмолвных голосов. Означает это, что я – ясновидящий или что у меня галлюцинации?
Рональд нашел цитату из «Письма лорда Чандоса» Гофмансталя:
Точно так же, как один раз я увидел через лупу увеличенной кожу своего мизинца, похожую на равнину, изборожденную полями и ложбинами, так же увидел я и людей с их поступками. Я больше не могу глядеть на них просто и привычно. Все разлагается на отдельные составные части, которые, в свою очередь, тоже разлагаются на части; и ничто больше не удается заключить в определенное понятие.
(—45)
103
Пола не догадалась бы, зачем он среди ночи вдруг задерживал дыхание рядом с нею, спящей, вслушиваясь в звуки и шорохи ее тела. Лежа на спине, до краев переполненная, она дышала тяжело и лишь иногда в непрочном сне двигала руками или, чуть оттопырив нижнюю губу, отдувалась, и струйка дыхания била ей в нос. Орасио застывал недвижно, чуть приподняв голову и опершись ею о кулак, сигарета повисла в углу рта. К трем часам утра улица Дофин замолкала, вдох, выдох, вдох, выдох, точно слабые приливы и отливы, но вдруг крошечный водоворот, какое-то шевеление внутри, точно движение второй жизни, и тогда Оливейра медленно приподнимался и прикладывал ухо к голой коже, прижимался к крутому, тугому, теплому животу и слушал. Шумы, падения, спады, касания, шорохи, точно раки и слизняки, ползают, цепляясь и задевая друг друга, темный, приглушенный мир скользит по плющу, то тут, то там взрываясь маленькими вспышками и снова приглушая их (Пола вздыхала, чуть шевелилась). Мироздание жидкое, текучее, вызревающее в ночи, плазмы поднимаются и опускаются, непроницаемо-закрытая, медленная машина нехотя движется, и вдруг – скрип, стремительный бег почти под самой кожей, пробежит и забулькает где-то у препятствия или фильтра: чрево Полы, черное небо с крупными, редкими звездами, с летучими кометами и вращением бесчисленных вопящих планет, море со своим шепчущим планктоном, шелестящими медузами, Пола-микрокосмос, Пола – итог вселенской ночи в своей маленькой ночи, забродившей и вызревающей, где кефир и белое вино мешаются с мясом и зеленым салатом, химический центр, бесконечно богатый, таинственный, далекий и такой тебе близкий.
(—108)
104
Жизнь – как комментарий к чему-то другому, до чего мы не добираемся: оно совсем рядом, только сделать прыжок, но мы не прыгаем.
Жизнь – балет на историческую тему, а история – о прожитом факте, а факт прожит над реальным событием.
Жизнь – фотография ноумена, обладание в потемках (женщиной, чудовищем?), жизнь – сводня смерти, блистательная колода, карты таро, значение которых забыто и которые чьи-то узловатые подагрические руки раскидывают в грустном одиночестве.
(—10)
105
Я думаю о забытых движениях, о многочисленных жестах и словах наших дедов, постепенно утрачиваемых, которые мы не наследуем, и они, один за другим, опадают с дерева времени. Сегодня вечером я нашел на столе свечу, играючи зажег ее и вышел в коридор. Движением воздуха ее чуть было не задуло, и я увидел, как моя левая рука сама поднялась и ладонь согнулась, живой ширмочкой прикрывая пламя от ветра. Огонек снова сторожко выпрямился, а я подумал, что этот жест когда-то был у всех нас (я так и подумал у нас, я правильно подумал или правильно почувствовал), он был нашим жестом тысячи лет, на протяжении всей Эпохи Огня, пока ему на смену не пришло электричество. Я представил себе и другие жесты: как женщины приподнимали край юбки или как мужчины хватались за эфес шпаги. Словно утраченные слова детства, которые старики в последний раз слышат, умирая. Теперь у меня в доме не слышно слов: «камфарный комод», «треножник». Это ушло, как уходит музыка того или иного времени, как ушли вальсы двадцатых годов или польки, приводившие в умиление наших бабушек и дедов.