Иосиф в Египте
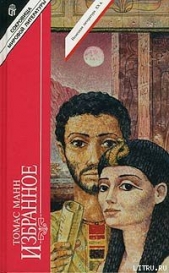
Иосиф в Египте читать книгу онлайн
Известный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1929), Томас Манн (1875—1955) создал монументальные произведения, вошедшие в золотой фонд мировой литературы. Одним из таких произведений является роман-миф об Иосифе Прекрасном. Отталкиваясь от древней легенды, Томас Манн говорит о неизбежности победы светлого разума и человечности над нравственным хаосом. Роман-тетралогия об Иосифе и его братьях отличается эпическим размахом и богатством фактического материала.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У того, кто внушил ей это желание, было тоже смертельно тяжело на сердце, — и по праву. Он не отваживался поднять глаза от доски и кусал губу, ибо его совесть была против него. Играл он, однако, рассудительно, он не умел иначе, и трудно было бы сказать, кто кем управлял, — он своим разумом или его разум — им. Она тоже делала ходы шашками, поднимала, передвигала их, но все это так рассеянно, что вскоре не только была разбита наголову, но даже не заметила этого и продолжала бессмысленно играть до тех пор, пока его неподвижность не заставила ее опомниться и с напряженной улыбкой взглянуть на путаницу своего проигрыша. Он вздумал облечь это больное мгновенье в рассудительные и вежливые слова, возомнив, что вылечит его этим, приведет в порядок, спасет, поэтому он спокойно сказал:
— Придется, госпожа, начать снова, сейчас или в другой раз, ибо этот кон нам не удался — не удался, разумеется, потому, что я неправильно начал, и теперь, как ты видишь, никто не может продвинуться: ты не можешь, потому что я не могу, а я — потому что не можешь ты, — обе стороны проиграли эту партию, так что даже нельзя говорить о победе или пораженье: оба победили, и проиграли оба…
Эти последние слова он сказал уже запинаясь и упавшим голосом, только по инерции, а не потому, что еще надеялся спасти и обсудить положение, ибо тем временем стало уже поздно, ее голова упала лицом на его руку, лежавшую у края шашечницы, ее волосы, в золотой и серебряной пудре, сдвинули покоившихся на доске львов, и руку его обдало горячее дыхание лихорадочной ее речи, пропащего лепета, который мы, из уважения к ее горю, не станем воспроизводить в болезненной его детскости, но смысл и бессмыслица которого были таковы:
— Да, да, не будем продолжать, нельзя продолжать, игра проиграна, и обоим нам ничего, кроме пораженья, не остается, Озарсиф, прекрасный бог из дальних пределов, мой лебедь и бык, мой горячо, мой свято, мой вечно любимый, умрем же вместе и сойдем в ночь отчаянного блаженства! Скажи, скажи мне, и говори смело, ведь ты же не видишь моего лица, потому что оно лежит на твоей руке, наконец на твоей руке, а мои пропащие губы касаются твоей плоти и крови, они просят, они молят тебя, чтобы ты, не видя моих глаз, честно признался мне, получил ли ты записочку, которую я тебе написала, прежде чем прикусила язык, чтобы не говорить тебе того, что я написала и что я все-таки вынуждена тебе сказать, потому что я твоя госпожа и это моя обязанность — произнести слово, на которое ты не вправе осмелиться по давно уже ничтожной причине. Но я не знаю, хочется ли тебе его сказать, и это горе мое, ибо знай я, что ты, если бы только имел право, сказал бы его от всего сердца, я с великим блаженством сделала бы это вместо тебя и, как госпожа, произнесла бы его сама, хотя и шепотом, хотя и лепеча, хотя и спрятав лицо на твоей руке. Скажи, получил ли ты через карлика письмецо, которое я тебе написала, прочитал ли его? Скажи, ты был рад увидеть мои знаки, ударила ли волною счастья в берег твоей души вся твоя кровь? Любишь ли ты меня, Озарсиф, бог в образе раба, небесный мой сокол, так, как люблю тебя я, люблю уже давно, очень давно, жаждет ли твоя кровь моей так, как я жажду тебя, почему я и написала это письмо после долгой борьбы, обезумев от твоих золотых плеч, от того, что все тебя любят, но прежде всего от божественного твоего взгляда, благодаря которому тело мое изменилось, а груди выросли и стали плодами любви? Спи — со — мной! Подари, подари мне свою молодость и свою прелесть, а я подарю тебе такое блаженство, какого ты и во сне не увидишь, я знаю, что говорю! Сблизим наши головы и наши ноги, чтобы насладиться досыта, чтобы умереть друг в друге, ибо я не вынесу больше жизни врозь!
Так говорила она, забыв обо всем на свете; мы не воспроизвели ее моления в том звучанье, какое придал ему лепет раненого ее языка; каждый слог причинял ей резкую боль, однако она пролепетала все это на его руке одним духом, ибо женщины умеют терпеть всякую боль. Но нужно иметь в виду, нужно представить себе и навсегда отныне запомнить, что слово неведения, скупое слово преданья, она произнесла не здоровыми устами и не как взрослый человек, а в муках боли, на языке маленьких детей, пролепетав: «Пи!» вместо «Спи!» Ибо для того она и прикусила язык, чтобы так вышло.
А Иосиф? Он сидел и перебирал свои семь причин, перебирал их и так и этак. Не станем утверждать, что его кровь не ударяла в берег его души широкими волнами, но преград было семь, и они выдержали. В похвалу ему надо заметить, что он не был с ней слишком строг и не изображал перед ней презрения к ведьме, соблазняющей его поссориться с богом, а был с ней кроток и добр и пытался даже с почтительной любовью утешить ее, хотя в этом, как признает всякий разумный человек, заключалась для него большая опасность; ибо где кончается утешение в подобном случае? Он даже не выпрастывал своей руки, несмотря на влажное тепло шепота и связанные с ним движения губ, которые она ощущала, он не убирал ее оттуда, где она была, покуда Эни не выговорилась, и даже еще немного дольше того, когда сказал:
— Госпожа, бога ради, зачем здесь твое лицо, и что ты говоришь в лихорадке от раны, — опомнись, прошу тебя, ты забыла, кто ты и кто я! Прежде всего — покой твой открыт, подумай об этом; вдруг нас увидит кто-нибудь, карлик ли, полномерный ли домочадец, и подглядит, где находится твоя голова, — прости, я не могу этого допустить, я должен, с твоего позволения, убрать свою руку и позаботиться, чтобы никто снаружи…
Он сделал, как сказал. Но она тоже стремительно поднялась с места, где его руки уже не было, и, выпрямившись, неожиданно полнозвучным голосом, со сверкающими глазами, прокричала слова, способные показать ему, с кем он имеет дело и чего можно ждать от той, которая только что сокрушенно молила его, а теперь, как львица, занесла лапу и даже перестала вдруг лепетать; при желании, стерпев боль, она могла заставить свой язык повиноваться себе, и поэтому она прокричала исступленно-отчетливо:
— Пусть будет открыта палата, пусть смотрит весь мир на меня и на тебя, которого я люблю! Ты боишься? Так знай же, что я не боюсь ни богов, ни карликов, ни людей, не боюсь, что они увидят меня с тобой, что они застанут нас вместе! Пусть придут, пусть явятся скопом и смотрят на нас! Как ветошь, брошу я к их ногам свою застенчивость и свою стыдливость, ибо для меня они и впрямь жалкая ветошь по сравнению с моей любовью к тебе, с этой самозабвенной мукой моей души! Мне ли страшиться? В моей любви страшна я одна! Я Изида, и кто на нас будет смотреть, к тому я отвернусь от тебя и брошу на него такой страшный взгляд, что он погибнет на месте!
Вот что с яростью львицы вскричала Мут, не обращая никакого внимания на свою рану и на боль, которую у нее вызывало каждое с усилием произносимое слово. А он задернул занавески между колоннами и сказал:
— Позволь мне принять меры осторожности ради тебя, ибо мне дано предвидеть, что сталось бы, если бы нас выследили, и то, что ты хочешь бросить миру, для меня свято. А мир этого не стоит, он не стоит даже того, чтобы умереть от гнева твоего взгляда.
Но когда он, задернув занавески, снова подошел к ней в сумраке комнаты, она была уже не львицей, а снова картавым ребенком, ребенком, однако, как змея хитрым, и, извращая смысл его поступка, пролепетала самым обворожительным голосом:
— Ты затем запер нас, злодей, и укрыл тенью от мира, чтобы он уже не мог защитить меня от твоей недоброты? Ах, Озарсиф, какой ты недобрый, слов нет, чтобы сказать, что ты со мной сделал, ты изменил мое тело и мою душу настолько, что я уже и сама перестала себя узнавать! Что бы сказала твоя мать, узнай она, что делаешь ты с людьми и до чего ты доводишь их, если они перестают себя узнавать? Неужели и мой сын был бы таким прекрасным и таким злым, и должна ли я видеть его в тебе, моего злого, моего прекрасного сына, солнечного мальчика, которого я родила и который в полдень прижимается головой и ногами к голове и ногам собственной матери, чтобы с нею породить себя снова? Озарсиф, любишь ли ты меня и на небе, и на земле? Описала ли я и твою душу, написав записку, которую послала тебе, и содрогнулся ли ты, когда ее читал, как содрогалась от бесконечного восторга и от бесконечного стыда я, когда писала ее? Когда ты обольщаешь меня своими устами, называя меня повелительницей твоей головы и твоего сердца, — как это понимать? Ты говоришь это, потому что так полагается, или в душевном пылу? Признайся мне в сумраке! После стольких ночей мучительных сомнений, когда я одиноко лежала без тебя, а моя кровь беспомощно взывала к тебе, ты должен спасти меня, мое спасенье, ты должен избавить меня от муки, признавшись, что ты для того говорил языком красивой лжи, чтобы тем самым сказать мне правду, сказать, что ты любишь меня!

























