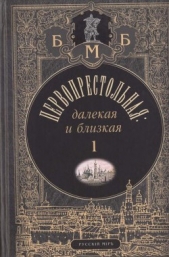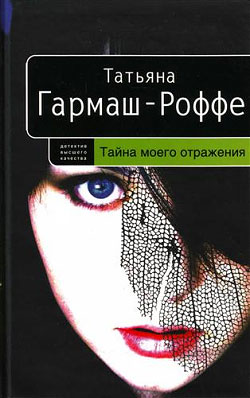Москва и москвичи
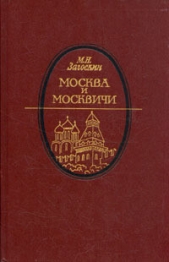
Москва и москвичи читать книгу онлайн
Записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые М. Н. Загоскиным
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да это что!.. Если только ты меня не обманываешь…
— Ах, господи, боже мой!.. Вы всё изволите сомневаться!.. Ну, жаль, что Ивана Федоровича здесь нет!..
— Какого Ивана Федоровича?
— Да вот лесника, что былинский лес покупает. Я бы вместе с ним к вам пришел, авось бы вы тогда поверили.
— Где ж он теперь?
— Уехал в рощу. Деньжонок-то со мною мало, а то бы я за ним скатал.
— А далеко ли?
— Да не близко: верст за тридцать. Меньше трех целковых не возьмут.
— Вот тебе пять рублей серебром, — сказал я, подавая ему ассигнацию, — съезди за лесником.
— Слушаю, сударь. Оно и лучше, батюшка! Извольте сами с ним переговорить.
— Ведь завтра ты вернешься?
— Как же, сударь. Если ему завтра нельзя будет к вам приехать, так я письмо от него привезу. Да он, верно, сам прискачет. Ведь дело-то не безделичное: рубль на рубль барыша. Прощайте, батюшка! Сейчас на постоялый двор, найму лошадей да и в путь.
Сводчик вышел из комнаты, потом через полминуты воротился назад.
— Что ты, любезный? — спросил я.
— Виноват, сударь, — забыл вам сказать, — Иван Федорович Выхин очень зарится на березовую рощу, которая подошла к самому саду, да вы не извольте ее продавать: березы-то сажены еще дедушкой покойного барина, — каждая обхвата в два будет.
— А если он заупрямится?
— Так извольте ему сказать, что вы и деревню-то затем покупаете, что вам эта роща нравится. В ней же всего-навсего десятин пять или шесть, — не потянется, сударь.
— Ну, хорошо… А, кстати, как тебя зовут, любезный?
— Савелий Прокофьев. Прощайте, батюшка!
Разумеется, я провел весь этот день в самых приятных мечтах: то мысленно удил рыбу в моей речке Афанасьевке, то гулял в столетней березовой роще или ел собственный свой виноград, свои доморощенные персики-венусы!.. Доходное именье в двадцати верстах от Москвы, прекрасная усадьба с такими барскими затеями, и все это достается не только даром, но даже с придачею!.. «Не может быть, — думал я, — чтоб этот старик меня обманывал: он вовсе не похож на обманщика. Да из чего бы он стал это делать? Если он хлопотал из того только, чтоб выманить у меня несколько рублей серебром, так зачем же, подучив деньги, воротился говорить со мною о березовой роще? Это уже было бы слишком хитро, да и вовсе для него бесполезно… Нет, видно, на этот раз мне посчастливилось!»
Часу в девятом вечера приехал ко мне старинный мой приятель Андрей Данилович Ерусланов. В первом выходе моих «Записок» я познакомил вас с этим ненавистником дилижансов и страстным любителем нашей русской тележной езды.
— Здравствуй, Богдан Ильич! — сказал он. — Я приехал с тобой повидаться и поговорить кой о чем. А, нечего сказать, далеконько ты живешь!
— Да, любезный друг! Я живу на Пресненских прудах, а ты на Чистых… версты четыре будет.
— Тебя, кажется, о здоровье спрашивать нечего, — продолжал Ерусланов, опускаясь в кресла, — ты смотришь так весело…
— Да и ты, кажется, вовсе не хмуришься.
— Нет, друг сердечный, я весел, очень весел! Бог милость мне дает.
— Право! Что ж такое?
— Да так!.. Вот, братец, говорят, что добрым людям не житье на этом свете, — неправда!.. Хорошо быть добрым человеком! Добрая слава лучше всякого богатства, любезный!
— Конечно, лучше: да к чему ты это говоришь?
— А вот к чему. Я, Богдан Ильич, покупаю отличное именье, или, лучше сказать, мне дарят это именье за то, что я добрый человек.
— Как так?
— Да именье-то какое! Барское, сударь!.. В двадцати верстах от Москвы.
— В двадцати верстах?…
— Да, Богдан Ильич, по Серпуховской дороге.
«Ой, ой, ой! — подумал я. — Это что-то нехорошо».
— Помещик этого именья, — продолжал Ерусланов, — не бывал в нем никогда. Оно, изволишь видеть, досталось ему по наследству. Видно, ему денежки понадобились, так он и написал крестьянам, чтоб они искали себе покупщика, а мужички-то, голубчики мои, знать, уж обо мне понаслышались, любезный, и просят, чтоб я их купил; да ведь даром, братец, даром!
— Ой, худо! — прошептал я.
— Представь себе, Богдан Ильич; за именье просят девяносто тысяч ассигнациями, а одного лесу на двести! Каменный дом, оранжереи, мукомольная мельница…
— На речке Афанасьевке? — прервал я.
— Да, да, на речке Афанасьевке!
— Сельцо Былино?
— Точно так! А ты его знаешь?
— Как не знать! А что, к тебе сами крестьяне приходили?
— Нет, они прислали ко мне от всего миру…
— И, верно, лысого старика, в сером пальто, с таким честным, добрым лицом?…
— Э, любезный, так ты и его знаешь?
— Как же! Прокофий Савельев…
— Нет, кажется, Савелий Прокофьев.
— Все равно, любезный друг! Ты, верно, дал ему что-нибудь?
— Безделицу: десять рублей серебром.
— А когда он у тебя был?
— Сегодня, часу во втором.
— Во втором? Экий проворный, подумаешь! Так он прямо от меня прошел к тебе.
— От тебя?
— Да, он был у меня ровно в двенадцать часов. Ну, друг сердечный, не прогневайся, — своя рубашка к телу ближе: ведь я уже это именье купил.
— Как купил? — сказал Андрей Данилович, вскочив с кресел.
— Да, мой друг, купил, и гораздо дешевле твоего: ты заплатил за него десять рублей серебром, а я только пять.
— Что ж это значит?
— А это значит, Андрей Данилович, что на то и щука в море, чтоб карась не дремал.
— Что ты говоришь? Да неужели этот старик…
— Отличный плут, а уж актер такой, каких я не видывал.
— Да нет, этого не может быть!
— Не просил ли он тебя отпустить на волю его родного брата, краснодеревца?
— Просил.
— Что ж, ты обещался отпустить?
— Разумеется.
— И он заплакал?
— Так и заревел, братец!
— Фу, какой артист!.. Жаль только, что он немножко однообразен. Не взял ли он у тебя денег, чтоб нанять лошадей и ехать за лесником?…
— Как же, Богдан Ильич! Он просил у меня пять рублей, а я дал ему десять.
— Ну вот видишь ли! От меня он зашел к тебе на перепутье, а может быть, от тебя завернет еще к кому-нибудь, — так этак, глядишь, в иной день перепадет ему рубликов двадцать пять серебром. Ремесло хорошее!
— Вот тебе и речка Афанасьевка! — вскричал Ерусланов. — А я уж сбирался на ней купальню поставить… Ах он мошенник, разбойник этакий!
— Да что ж ты на него так гневаешься? — сказал я. — Разве я сержусь? А ведь он и меня так же обманул, ведь и я так же, как ты, думал про себя: хорошо быть добрым человеком!
Ерусланов засмеялся.
— Ну, — молвил он, — много я видел плутов на моем веку, а уж такого мастера не встречал!.. Да нет, Богдан Ильич, ты как хочешь, а я этого так не оставлю!
— А что ж ты сделаешь?
— Я отыщу его.
— В самом деле: съезди-ка в сельцо Былино, авось он там.
— Нет, любезный, этот Ванька Каин должен быть здесь, в Москве. Я по всем съезжим буду справляться, где живет мещанин Прокофий Савельев или Савелий Прокофьев — найду его…
— А там что?
— А там что?… Да дам ему еще целковый за то, что он молодецки нас обманул.
— Так уж дай и от меня, — сказал я, — но только не за это.
— За что же?
— За то, что я по милости его был целый день доволен, весел и даже счастлив.
— А что, ведь ты правду говоришь! — прервал Андрей Данилович. — Купить себе на целый день счастья за пять рублей серебром — да разве это не дешево? Эх, жаль, что я к тебе заехал! Сиди я дома, так мы бы с тобой за наши денежки вдоволь понатешились!
IV
Осенние вечера
Вступление
Дедушка мой, Лаврентий Алексеевич Закамский, вступил в службу еще в начале царствования Екатерины II. В старину весьма немногие из родовых дворян начинали свое служебное поприще в звании канцеляристов и губернских регистраторов: обыкновенно все дворянские дети поступали почти со дня своего рождения на службу в царскую гвардию, то есть они записывались в полки солдатами и, разумеется, считались в отпуску; но их служба шла своим чередом. Этих заочных солдат производили в ефрейторы, ефрейт-капралы, каптенармусы и даже сержанты. По милости этого обычая Лаврентий Алексеевич явился также на службу лейб-гвардии в конный полк не солдатом, а старым ефрейт-капралом. Прослужив с лишком двадцать лет офицером, дедушка мой вышел наконец в отставку полковником и отправился на житье в свою наследственную пензенскую отчину. Лаврентий Алексеевич нашел в ней развалины господского дома, обширный фруктовый сад, который служил выгоном для дворового скота, сотни две крестьянских изб, ветхую деревянную церковь и царское кружало, то есть кабак. Вокруг этого питейного дома всегда по праздникам и очень часто по будням толпились православные, вероятно потому, что тут бывали мирские сходки, на которых в старину все дела оканчивались обыкновенно общей попойкой. Разумеется, Лаврентий Алексеевич отвел другое место для народных совещаний, выгнал из сада коров, начал строить высокие хоромы с бельведером и заложил каменную церковь. Потом принялся хозяйничать: выстроил винокуренный завод для дохода, завел псовую охоту ради потехи и музыку, я думаю, для того, чтоб не даром кормить своих дворовых людей, которых значилось у него, по ревизским сказкам, без малого двести душ; одним словом, мой дедушка исполнил в точности всю обязанность богатого помещика тогдашнего времени, то есть покутил порядком смолоду, послужил верой и правдой матушке царице, прожил на службе третью часть отцовского имения и приехал наконец доживать свой век барином в то самое наследственное село, где он родился, провел свои детские годы и певал некогда по воскресным дням на клиросе вместе с дьячком, у которого учился грамоте. В одном только дедушка не последовал примеру большей части помещиков, живущих на покое: он завелся всем дворянским хозяйством, только не выбрал себе по сердцу хозяюшки. Впрочем, Лаврентий Алексеевич вовсе не жалел об этом. Он любил дочь своего брата, то есть мою покойную мать, как не всякий отец любит свое родное дитя. «Да на что бы я женился? — говаривал он всегда, обнимая племянницу. — Что, у меня семьи, что ль, нет? Пусть себе говорят, что я старый холостяк, бесплодная смоковница, — вздор, вздор, матушка! По милости божьей у меня есть и дочь, и сын, и даже внучек!» — прибавлял он всегда, целуя меня в маковку.