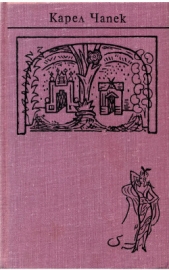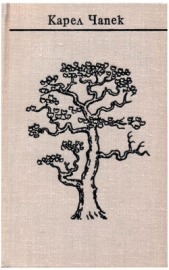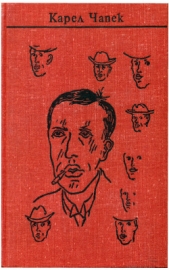Собрание сочинений в семи томах. Том 7. Статьи, очерки, юморески
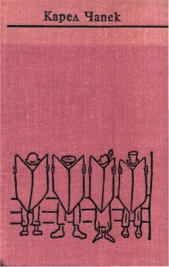
Собрание сочинений в семи томах. Том 7. Статьи, очерки, юморески читать книгу онлайн
В седьмой том собрания сочинений К. Чапека вошли произведения малого жанра — памфлет «Скандальная афера Иозефа Голоушека» (1927), апокрифы, юмористические очерки «Как это делается» (1938), афоризмы, побасенки и юморески, этюды и статьи о литературе и искусстве, публицистические заметки разных лет.
В томе использованы рисунки Иозефа Чапека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Говорят об ограниченности наших масштабов, но думаю, что афинские масштабы, в которых творил Софокл, незначительно превосходили масштабы, скажем, сегодняшней Пльзни; обстоятельства, в которых писал Сервантес, для него лично не были наилучшими, а если исходить из численности населения, то, например, Кнут Гамсун должен был бы писать еще менее «всемирно», чем покойный Фердинанд Шульц [350]. Дело, следовательно, совсем не в этом. Что же касается пропаганды за границей, то рекомендую уповать на нее меньше всего. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что всемирная известность вышеупомянутого Кнута Гамсуна, или Ибсена, или Стриндберга отнюдь не была делом рук соответствующих ведомств, занятых установлением связей с заграницей, а в большей или меньшей степени определялась все же их собственным творчеством. Нам пророчествуют, что чешская литература станет мировой, как только сложатся те или иные исторические условия. Возразить на это нечего, как и на любое пророчество. Но мы знаем, что Карел Гинек Маха создал свободную поэзию, не дожидаясь результатов революции 1848 года, так же, как Отакар Бржезина простирал руки к звездам и вселенной, не дожидаясь, пока наша нация преуспеет. Короче, есть масса свидетельств тому, что литературный талант, как немногое другое, обусловлен историей только до известной степени.
Однако настоящая статья не ставит целью исследовать причины, по которым наша литература не обладает «das gewisse Etwas» [351], что могло бы претендовать на всемирную известность, а лишь рассматривает вопрос: что за штука эта всемирная известность и чем она достигается; иными словами, как сделать, чтобы литература приобрела всемирное значение. Полагаю, лучше всего это познается на примере книг, которым удалось войти в мировую литературу.
Если внимательно приглядеться к произведениям, получившим мировую известность, то нетрудно заметить, что они делятся на несколько разрядов. Прежде всего это книги, которые по разным причинам имели мировой успех, срочно переводились на другие языки и читались миллионами людей. Нередко бывает, что через пять — десять лет об этих книгах никто и не вспомнит, они оказались преходящими сенсациями, которым отпущен свой срок и которые умирают и забываются так же, как умирают и забываются модные песенки. Вспомните, сколько очень известных некогда книг уже изгладилось из вашей памяти. Потому что они были модной международной халтурой, чтивом приятным и универсальным. В свое время Онэ [352], безусловно, был более известен в мире, чем, скажем, Вилье де Лиль Адан [353]; но кому придет в голову сегодня читать или переиздавать светские романы Онэ? Кого сейчас волнуют «Холостячка» [354], «Мадонна спальных вагонов» [355] и другие подобные изделия самых разных достоинств, некогда поистине наводнившие международный книжный рынок?
Вот вам один вариант мировой известности. Но если по понятным причинам кое-кто из наших авторов и тоскует по ней, то это еще не повод принимать ее во внимание при оценке нашей литературы. Поразительно, насколько ничтожно значение таких в свое время имевших мировой успех романов для подлинного развития литературы. Их духовный вклад находится в обратной зависимости от их популярности у широких читательских кругов всего мира.
Второй род мировой литературы представляет собой полную противоположность первому. Это книги, в свое время встреченные полным равнодушием или даже недовольством со стороны читателей, а зачастую и критики; книги, которые никто не покупал и не читал, за исключением узкого, более или менее избранного круга. И лишь с течением времени стало ясно: то, что в них не нравилось, было новой, доселе неведомой красотой, новым, не шаблонным взглядом на вещи; эти полузабытые книги в дальнейшем стали оказывать влияние на восприятие и самовыражение многих поколений, на развитие мировой литературы в целом. Они никогда не станут чтением для широкого читателя, но зато сильно и довольно долго воздействуют на творческие личности. Даже когда минует пора живого влияния этих новаторских и духовно обогащающих произведений, их индивидуальная и историческая ценность надолго останется непреходящей, и мы всегда будем видеть в них пример для подражания и источник вдохновения. Есть книги слишком прекрасные, чтобы тотчас снискать всеобщее признание; есть книги исключительные, книги новаторские, произведения экспериментальные или необычные; есть книги, венчаемые лишь после смерти их творцов всемирной известностью совсем иного рода, чем громкая мировая популярность. Достаточно вспомнить судьбу Верлена или Рембо, судьбу Лотреамона [356] и многих других.
Недостает ли нашей литературе и такой всемирной известности? По-видимому, да. Говоря откровенно, мы не являемся страной, откуда в изобилии исходят новые идеи и направления. Но относится это не только к литературе. Мы вынуждены были изо всех сил «догонять Европу», как принято говорить, и это было для нас в наших географических и политических условиях нелегко и непросто; кстати, об этом еще ничего не написано. Теперь настало время, когда нам уже незачем благоговейно смотреть на других, мы можем заняться собственными идеями. Но сделанное нами далеко не сразу станет заметным. Мы в большом долгу и перед своим прошлым, — надо покопаться, поискать, нет ли в нем обойденного вниманием начинания или крупных индивидуальностей. Уже одно это создало бы более благоприятную и плодотворную обстановку, свободную от гнетущего ощущения, что у нас чересчур часто творят или экспериментируют впустую, в условиях невнимания к истории.
Далее. Существует еще один тип мировой известности, уже иного, не чисто литературного свойства. Я имею в виду историческую актуальность, которой обладают книги, за что-нибудь или против чего-нибудь борющиеся. Скажем, «Хижина дяди Тома» — произведение отнюдь не стендалевской красоты или бальзаковской жизненности; и все же это произведение мировой литературы — единственно благодаря тому, что оно честно и в нужный момент высказало простую и разумную мысль: рабство должно быть ликвидировано. Вот вам, пожалуйста, — мировой славе подобного рода нисколько не повредило то, что мы называем «скромными масштабами». Великие и правдивые идеи не знают границ. Отчего бы и нашей литературе не стать борцом за идеалы, далеко идущие и значительные с точки зрения истории?
Наконец, есть четвертый тип мировой литературы, — его-то мы имеем в виду прежде всего. Благодаря чему Диккенс, этот самый английский из всех писателей Англии, стал мировым автором? Благодаря чему приобрел мировую известность Гоголь и другие, создавшие такую русскую литературу, что ничего более русского нельзя себе и представить? Абсолютно нордический Гамсун. Синклер Льюис, этот стопроцентный американец, и множество других, кто вольно или невольно выражали душу и характер, рисовали типы и жизнь своей страны и своей нации? Я сознаю, что названные мною писатели не относятся к одной духовной семье или классу, но все они без исключения не ставили перед собой задачу сотворить некую международную литературу, создавали произведения глубоко национальные, насквозь отечественные, что не помешало им стать — да притом еще с удивительной очевидностью — творцами мирового значения. Слов нет, все это великие писатели, но вполне возможно, что Диккенс увлекал бы нас меньше, если бы писал романы о венецианских дожах, или что мы разочаровались бы в Гамсуне, если бы он начал описывать довильский флирт. Мы больше всего любим их именно за то неотъемлемое, что принадлежит именно им в локальном и эмпирическом смысле. Чем более английским, более русским, более нордическим является то или иное произведение, тем основательнее и очевиднее претендует оно на мировое значение: в этом глубокий парадокс того, что мы называем мировой значимостью. И это — разумеется, наряду с необходимой искрой божьей — самое общее условие, которое полностью приложимо и к чешской литературе. Если наша словесность не столь значима, не столь необходима миру и известна в нем, как бы нам того хотелось, то объясняется это, вероятно, не тем, что наши отечественные условия слишком скромны, ограничены и неблагоприятны для возникновения большой и интересной литературы, а тем, что наша литература не слишком значительна и не очень интересна, недостаточно зрела, откровенна и искушенна, чтобы всеобъемлюще и наглядно изобразить наши отечественные условия, чешскую жизнь и вообще все, что составляет судьбы чехов, начиная от земли и кончая звездным небосводом. Если бы наши книги были в достаточной степени чешскими, они имели бы и подобающее мировое значение. До тех пор, пока для нас камнем преткновения будут наши по всем статьям скромные и с точки зрения географии и людских ресурсов ограниченные (или отграниченные) отечественные условия, мы никогда не создадим литературы, именуемой мировой. Самый верный способ добиться мирового признания — это наглядно показать, что и мы со своей страной и своими соотечественниками являемся частицей интересного, подлинного, неделимого и живого мира. Пусть мы маленькая страна, населенная скромными людьми со скромными судьбами; все равно это страна, это люди и судьбы, как и везде, — ничего более мирового и общезначимого на сегодняшний день никому изобрести не удалось.