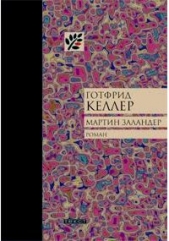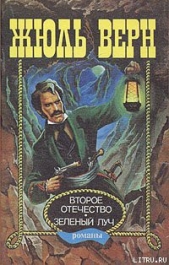Зеленый Генрих
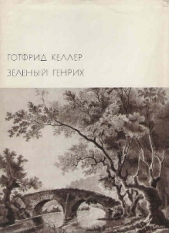
Зеленый Генрих читать книгу онлайн
«Зеленый Генрих» Готфрида Келлера — одно из блестящих произведений мировой литературы, которые всегда будет привлекать читателей богатством гуманистических идей, жизненных наблюдений и немеркнущих художественных образов. Это так называемый «роман воспитания». Так называют роман о жизненном пути человека, чаще всего молодого, от колыбели до обретения им зрелости. Такой тип романа с легкой руки Гете, первым вспахавшим это поле, очень популярен у немцев.
«Зеленый Генрих» — это, наверное, вершина жанра, самый знаменитый роман воспитания. Взрослеет в романе и ищет своего места в жизни швейцарский юноша XIX века, который вдоволь постранствовав по свету и разобравшись со своими женщинами, становится добросовестным амтманом (чиновником, госслужащим) с краеугольным убеждением, что лучше чем Швейцария нет страны на свете.
Роман этот автобиографический.
Вступительная статья Е. Брандиса.
Перевод с немецкого Ю. Афонькина, Г. Снимщиковой, Е. Эткинда, Д. Горфинкеля, Н. Бутовой.
Примечания Е. Брандиса и Б. Замарина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь все сводилось к тому, чтобы подчинить себя железному порядку и быть точным во всем до мелочей. И хотя это лишало меня моей полной свободы и самостоятельности, все же я испытывал настоящую жажду предаться этой строгой муштре, как ни мелки и смешны были иногда ее непосредственные цели, и каждый раз, когда мне угрожало наказание, меня охватывало чувство настоящего стыда перед товарищами, которые, впрочем, переживали приблизительно то же самое.
Когда мы подучились настолько, что могли прилично маршировать по улице, нас каждый день стали водить на учебный плац, который находился за городом и пересекался проезжей дорогой. Однажды, когда я в шеренге, примерно из пятнадцати человек, под командой фельдфебеля, который неутомимо пятился перед нами, крича и отбивая ладонями такт, уже часами мерил по всем направлениям широкий плац, мы вдруг остановились почти у самой дороги, повернувшись фронтом к ней. Наш командир, находившийся за нами, продержал нас немного в неподвижности, чтобы выправить у некоторых из нас положение рук и ног. Пока он шумел и ругался у нас за спиной, используя до предела права, предоставленные ему законом и обычаем, а мы слушали его, стоя лицом к дороге, приблизилась большая, запряженная четырьмя лошадьми фура, в каких странствуют переселенцы, направляющиеся к морским портам. Эта фура была доверху нагружена всяким добром и, по-видимому, служила средством передвижения нескольким семьям, отправлявшимся в Америку. Мужчины могучего телосложения шли рядом с лошадьми, а наверху, под удобно устроенным пологом, сидело четверо или пятеро женщин с ребятишками и даже один глубокий старик. И с ними была Юдифь. Случайно подняв глаза, я увидел ее, высокую и красивую, среди прочих женщин. На ней было дорожное платье. Я не на шутку испугался, и сердце у меня заколотилось, — между тем мне нельзя было даже шелохнуться. Юдифь, которая, казалось мне, проезжая мимо, мрачным взглядом скользила по шеренге солдат, заметила меня среди них и сейчас же протянула руки в мою сторону. Но в тот же миг наш тиран скомандовал: «Кругом марш!» — и, как одержимый, погнал нас беглым шагом на противоположный конец плаца. Я бежал вместе с другими, прижав, как полагалось по уставу, руки к телу, «большой палец наружу», и ничем не выдавал охватившего меня волнения, хотя в эту минуту мне казалось, что сердце вот-вот перевернется у меня в груди. Когда, послушные зигзагам мысли нашего предводителя, мы наконец опять повернулись лицом к дороге, повозка уже исчезала вдали.
К счастью, после этого все тотчас разошлись, и я поспешил удалиться, в поисках уединения, с чувством, что теперь окончилась первая часть моей жизни и начинается другая.
Глава девятая
КУСОЧЕК ПЕРГАМЕНТА
Сколько времени утекло с тех пор, как я написал рассказанное выше! Я теперь другой человек, мой почерк давно изменился, и все же я чувствую себя так, словно продолжаю рассказ, прерванный лишь вчера. Для человека, всегда остающегося созерцателем, счастливые и несчастливые повороты судьбы равно занимательны, и он платит за свое меняющееся место в жизни сколько придется, отдает за него дни и годы, пока эта его сыпучая монета не иссякнет.
Поворотная точка, которая незаметно надвинулась с уходом моей ранней юности и Юдифи, определилась сама собой: необходимо было привести мои художественные занятия к какому-то завершению. Надо было вступить на тот путь в широкий мир, на который ежедневно выходят тысячи юношей, далеко не всегда приходящих: обратно. Это естественный порядок вещей. Но что касается меня, то я еще некоторое время мог посвятить ученью без заботы о куске хлеба, с тем чтобы все же в известный срок стать на ноги.
Небольшая сумма, уже много лет назад унаследованная мною от отца, согласно предписаниям закона, находилась в ведении дяди, который был назначен моим опекуном, но вмешивался в мои дела редко. Однако, так как эти деньги должны были дать мне возможность учиться в художественной школе (а я по-прежнему мечтал об этом), понадобилось заседание опекунского суда, чтобы выдать эти деньги и предоставить мне право их тратить. В наших местах такого случая еще не бывало, и никто не помнил, чтобы скромные поселяне, члены сиротской опеки, вынуждены были заседать и решать, может ли юный питомец, завязав все состояние в узелок, уехать со своей родины, чтобы в буквальном смысле проесть эти средства. С другой стороны, они с некоторого времени имели в своей среде живой пример человека, осуществившего такое дело без их участия и носившего прозвище «пожирателя змей». Выросший в далеких местах под надзором легкомысленных и невежественных родителей, он, подобно мне, хотел стать художником; он отпустил волосы до плеч и болтался в разных академиях, щеголяя в бархатной куртке, панталонах и сапогах со шпорами. Это продолжалось до тех пор, пока не исчезли и деньги и родители. Потом, как говорили, он несколько лет перебивался, бродя с гитарой за спиной, но не научился толком владеть и этим инструментом. А недавно — уже пожилым человеком — он был доставлен в деревню и помещен в местную богадельню, где ютилось несколько старух, идиотов и никчемных прощелыг, которые иной раз так орали и шумели, точно сидели в чистилище. Прошлое этого человека было точно темное предание. Никто достоверно не знал, обладал ли он когда-нибудь талантом, умел ли делать что-нибудь путное, и он сам, по-видимому, не сохранил об этом никакого воспоминания. Ни одно его слово или поступок не показывали, чтобы он когда-нибудь вращался среди образованных людей и посвятил себя искусству, и только сам он при случае похвалялся, что, дескать, было время, когда и он был хорошо одет. Единственное, в чем он был очень ловок, это в искусстве любым способом раздобыть себе глоток вина, а также в ловле змей, которых он поджаривал, как угрей, и пожирал. На зиму он заготовил себе полный горшок медянок, словно это были миноги, и перетаскивал его из угла в угол, чтобы предохранить это сокровище от покушений своих собратий по богадельне, которые в своекорыстии отнюдь не уступали тем искусникам пожить на чужой счет, что принадлежат к более высоким слоям общества.
Одного такого выродка бывает достаточно, чтобы ожесточить целую местность и настроить все сердца против муз и всего с ними связанного. Не в добрый для меня час оказался этот «пожиратель змей» в деревне, когда я пришел туда ради упомянутого разбирательства. Да и мне самому он представился каким-то злым духом, когда я однажды, сидя у дороги, зарисовывал в свой альбом большой прошлогодний чертополох, иссохший и бесцветный, а этот субъект шел мимо и нес на палке за плечом двух мертвых змей; на миг он остановился, посмотрел, как я работаю, осклабился и пошел дальше, покачав головой, словно в памяти у него мелькнуло что-то забавное. На нем был длинный, застегнутый доверху дырявый сюртук ржаво-бурого цвета, на голых ногах — туфли, расшитые поблекшими розами, а на голове — австрийская солдатская фуражка; я и сейчас еще ясно вижу, как он, крадучись, удаляется от меня.
Этот призрак, несомненно, маячил в головах трех или четырех общинных старост, заседавших за столом в качестве членов сиротского суда и с осторожным любопытством бегло оглядевших меня. Надо сказать, что дядя нашел полезным ввести меня и представить, чтобы, в случае надобности, я мог дополнить его доклад и лучше осветить положение. Но мне казалось, что я вижу на лицах членов суда такое выражение, словно они давно знают о предстоящем им неприятном деле и теперь говорят: «Ну вот, пожалуйста!» Возможно, что они с удивлением наблюдали, как я уже несколько лет в теплое время бродил по полям и лесам, то там, то сям раскрывая свой белый полотняный зонт, и убеждались, что округ их от этого не прославился и заморские туристы не едут смотреть на эту диковинную страну. Вопрос о том, зарабатываю ли я себе этим веселым ремеслом кусок хлеба, они до сих оставляли в стороне, так как от них никто ничего не требовал. Теперь настал час заняться мною.
Сначала, пока дядя излагал и разъяснял суть дела, они вели себя очень сдержанно. Никто не хотел проявить недостаток ума и рассудительности или выказать нескромное презрение к тому, с чем он не был знаком. Тем не менее все они отлично усвоили, что кругленькая сумма, лежащая теперь в ящике так спокойно, как Элеазар в лоне Авраамовом, через определенное время должна будет исчезнуть. Каждый, сообразно своему общественному положению и характеру, быстро представил себе, на что можно было бы с пользой истратить такие деньги. Один купил бы луг, который потом переходил бы от отца к сыну, из поколения в поколение и кормил бы несколько голов скота. Другой давно приглядел отличный участок земли под виноградник, где, безусловно, можно было бы производить неплохое вино. Третий мысленно выкупал у соседа право дороги, которая прорезала принадлежавшее ему поле. Наконец, четвертый приходил к заключению, что он просто оставил бы себе документ, представлявший собой кусочек старого пергамента, как надежную процентную бумагу, с которой не следовало расставаться. Однако в то время как они мерили на свою мерку то невидимое, за что я готов был отдать и луг, и виноградник, и право дороги, и кусочек пергамента, каждый начинал различать это нечто все явственнее, но лишь как пустой туман, как неосязаемый пар, и старейший, собравшись с духом, изящно выразил свои сомнения сухим покашливанием. К нему присоединились, один за другим, и остальные.