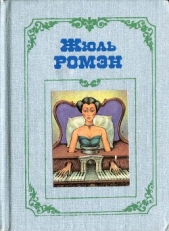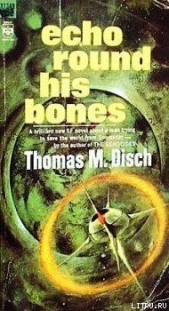Путём всея плоти
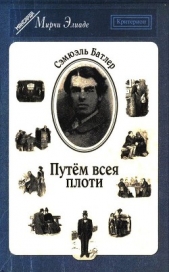
Путём всея плоти читать книгу онлайн
В серию «Мансарда» войдут книги, на которых рос великий ученый и писатель Мирча Элиаде (1907–1986), авторы, бывшие его открытиями, — его невольные учителя, о каждом из которых он оставил письменные свидетельства.
Сэмюэль Батлер (1835–1902) известен в России исключительно как сочинитель эпатажных афоризмов. Между тем сегодня в списке 20 лучших романов XX века его роман «Путём всея плоти» стоит на восьмом месте. Этот литературный памятник — биография автора, который волновал и волнует умы всех, кто живет интеллектуальными страстями. «Модернист викторианской эпохи», Батлер живописует нам свою судьбу иконоборца, чудака и затворника, позволяющего себе попирать любые авторитеты и выступать с самыми дерзкими гипотезами.
В книгу включены два очерка — два взаимодополняющих мнения о Батлере — Мирчи Элиаде и Бернарда Шоу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кристина сначала немного дёрнулась по поводу того, что деньги попали к нему, как она выразилась, «через голову папы».
— Ну, как же так, милый, — сказала она осуждающим тоном, — это же больше, чем папа имел за всю жизнь! — Но Эрнест снова успокоил её, высказав предположение, что, знай мисс Понтифик, насколько вырастет сумма, она оставила бы большую её часть Теобальду. Такой компромисс Кристину удовлетворил, и с того момента она, несмотря на своё болезненное состояние, с жаром заняла новую позицию и с этой позиции как с исходного пункта начала мысленно тратить за Эрнеста его деньги.
Замечу мимоходом, что Кристина была права в том, что у Теобальда сроду не было таких денег, какими теперь владел его сын. Начать с того, что у него не было четырнадцати лет до совершеннолетия, когда деньги не снимали со счёта, и они росли без помех, а кроме того, он, как и я и почти все остальные, несколько пострадал в 1846 году [268] — не до полного краха, и даже без серьёзного ущерба, но достаточно для того, чтобы до конца дней потерять вкус к каким бы то ни было вложениям, кроме самых консервативных. Теобальда терзал не столько сам факт, что у сына есть деньги, сколько то, что сын богаче его, да ещё в столь раннем возрасте. Вот подождал бы лет до шестидесяти, шестидесяти пяти, стал бы к тому времени развалиной от бесконечных неудач, ну, тогда пускай бы себе имел, сколько там ему нужно, чтобы не идти в работный дом да оплатить предсмертные и посмертные расходы; а тут — 70 тысяч фунтов, да в 28 лет, да без жены, да всего с двумя детьми — нет, это положительно невыносимо. Кристину, которая была слишком больна и слишком увлечена тратой денег, эти подробности не волновали; она и вообще была натурой более добродушной по природе, чем Теобальд.
Эта великая удача — она видела это с полувзгляда — напрочь смывает позор тюремного заключения. Всё, об этом надо забыть и не вспоминать. Да, это была ошибка, ужасная ошибка, но чем меньше об этом говорить, тем лучше. Эрнест, ясное дело, вернётся в Бэттерсби и будет там жить, пока не женится, и щедро расплатится с отцом за хлеб и кров. Оно только справедливо, что Теобальд что-то с этого получит, да и сам Эрнест не допустит, чтобы воздаяние было менее чем щедрым; это несравненно лучшее, самое простое решение; и он станет вывозить сестру в свет гораздо чаще, чем это считают нужным делать Джои и Теобальд, и сам, несомненно, будет превосходно принимать у себя в Бэттерсби.
Он, конечно, приобретёт бенефиций для Джои и будет ежегодно делать крупные подарки сестре; так, что там ещё? Ах, да — он станет настоящим магнатом в графстве. А может быть, даже пойдёт в парламент! У него в детстве были способности, не сравнить, конечно, с гениальностью д-ра Скиннера и даже Теобальда, но он и отнюдь не был дефективным, и если он попадёт в парламент, да ещё таким молодым, — что помешает ему ещё при жизни стать премьер-министром, а в таком случае он, естественно, станет пэром. О, о! почему бы ему не приступить к делу прямо сейчас, чтобы она дожила до того дня, когда её сына станут называть «милорд» — Лорд Бэттерсби, это звучит, а если у неё хватит здоровья позировать, он, несомненно, закажет её портрет в натуральную величину и повесит на стене в своей огромной столовой зале. Его выставят в Королевской академии. «Портрет матери Лорда Бэттерсби», — сказала она про себя, и сердце её привычно затрепетало в радостном оживлении. А если она не сможет позировать, то, к счастью, её не так давно фотографировали, и портрет удался, как только может удаться фотография лица, в котором, как в её лице, столь решающее значение имеют не черты, а выразительность. Может быть, художник сможет писать с фотографии. Это даже хорошо, если вдуматься, что Эрнест оставил церковь — о, насколько более мудро Бог обустраивает всё для нас, чем мы сами для себя! О, теперь она всё поняла — это Джои было суждено стать архиепископом Кентерберийским, а Эрнесту следовало оставаться мирянином и стать премьер-министром… — и прочая, и прочая, пока дочь не напомнила ей, что пришло время принимать лекарство.
Это всего лишь малая толика тех грёз, что носились в голове у Кристины, — продолжались они, надо полагать, минуты полторы, но вкупе с присутствием сына дивно оживили её дух. Больная, умирающая, страдающая, она вдруг озарилась до того, что раз или два даже рассмеялась вполне весело. Назавтра доктор Мартин сказал, что ей настолько лучше, что он прямо-таки начинает надеяться на выздоровление. Теобальд, как только заходила речь о такой возможности, качал головой и говорил: «Мы не можем желать продолжения этого кошмара» А Шарлотта подвергла неожиданной атаке Эрнеста, сказав:
— Знаешь, дорогой Эрнест, эти разговоры — то лучше, то хуже — папу ужасно нервируют. Он выдержит всё, что бы ни случилось, но ему очень трудно думать о десятке разных разностей — то так, то сяк, то хорошо, то плохо, — и всё за одни сутки; хорошо бы тебе этого не допускать — то есть ничего ему не говори, пусть даже доктор Мартин и надеется.
Шарлотта хотела, чтобы в её словах подразумевалось, что за всеми неудобствами, которые испытывает Теобальд, она сама, Джои и все прочие, стоит именно Эрнест, и у неё уже даже вылетели слова, долженствовавшие донести это миру; ну, то есть, постоять за них она не посмела и тут же отреклась, но на какой-то краткий миг это всё же были её слова, и тем она выдала себя. Во всё время болезни матери Эрнест не раз замечал, как Шарлотта не упускает случая показать ему свой нрав, стоило доктору или сиделке объявить о малейшем улучшении в состоянии больной. Раз она написала письмо в Крэмпсфорд с просьбой, чтобы там молились за Кристину всем приходом (она была убеждена, что мать бы этого пожелала, а крэмпсфордским прихожанам будет приятно, что о них помнят) и одновременно ещё другое письмо, на совершенно другой предмет, и намеренно перепутала конверты. Отнести письма на деревенскую почту попросили Эрнеста, и он опрометчиво согласился; когда ошибка обнаружилась, Кристине как раз чуть полегчало. Шарлотта тут же налетела на Эрнеста и свалила всю вину за оплошность на него.
Если не считать того обстоятельства, что Джои и Шарлотта повзрослели, дом и всё в нём, живое и неживое, мало изменилось с тех пор, как Эрнест был здесь последний раз. Мебель и безделушки на камине были те же, сколько он себя помнил. Б гостиной по обеим сторонам очага висели, как встарь, Карло Дольчи и Сассоферрато; висела и акварель кисти Шарлотты, сцена на Женевском озере, копия с оригинала, одолженного ей учителем живописи, законченная под его же руководством. Про эту картину слуги говорили, что она, должно быть, хороша, ибо мистер Понтифик выложил десять шиллингов за раму. Обои на стенах не изменились; розы всё так же томились по пчёлам; и всё семейство всё так же молилось по утрам и вечерам о том, чтобы сподобиться быть «по-настоящему честными и добросовестными во всём».
Исчезло только одно изображение — его собственная фотография, висевшая раньше под фотографией отца, между портретами брата и сестры. Эрнест заметил это во время молитвы, пока отец читал о Ноевом ковчеге и о том, как его конопатили илом — любимый, кстати сказать, текст Эрнеста в его бытность ребёнком. На следующее утро, однако же, фотография вернулась на место — немного запылённая, с отколовшимся в уголке рамы кусочком позолоты, но вернулась определенно. Надо полагать, её повесили на место, когда выяснили, насколько он богат.
Над очагом в столовой вороны всё так же пытались накормить Илью-пророка; и какой же сонм воспоминаний вызвала у него эта картина! Глядя в окно, он видел клумбы перед домом, точно такие же, как и всегда; и он поймал себя на том, что пристально всматривается в пространство между окном и голубой дверью в конце сада, пытаясь увидеть, идёт ли дождь, — как когда-то в детстве во время уроков с отцом.
Ужинали рано; оставшись после ужина наедине с сыновьями, Теобальд поднялся, встал на коврик у камина под изображением Ильи и стал насвистывать в своей старой рассеянной манере. Он знал всего две мелодии; одна была «В моей избушке на опушке», другая — пасхальный гимн; он насвистывал их всю жизнь, но так и не преуспел; он насвистывал их, как это делал бы учёный скворец: старательно, но криво; на каждой третьей ноте он фальшивил на полтона, как бы имея в виду некоего дальнего музыкального предка, только и знавшего, что лидийский да фригийский лад, или что-нибудь ещё, позволявшее ему максимально исказить мелодию, едва оставляя её в рамках узнаваемости. Теобальд стоял перед огнём и тихонько, как во времена оны, насвистывал свои две мелодии, пока Эрнест не вышел из комнаты; он испугался, что неизменность внешнего вкупе с изменённостью внутреннего окончательно лишит его душевного равновесия. Он уединился под купой промокших лип позади дома и нашёл утешение в трубке. Вскоре он оказался у порога отцовского кучера, который женился на давней служанке его матери; к ней Эрнест был всегда привязан, и она к нему, ибо знала его ещё пяти-шестилетним. Звали её Сюзанной. Он уселся в кресле-качалке у огня, а Сюзанна продолжила гладить бельё на столе у окна; кухню наполнял запах горячей фланели.