Рубашка
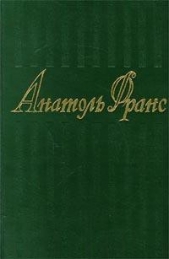
Рубашка читать книгу онлайн
Новелла из сборника "Семь жен Синей Бороды и другие чудесные рассказы". Это грустная философская сказка для взрослых. Сказка, которая заставляет нас улыбаться, задумываться и взглянуть на себя со стороны...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В салоне г-жи дю Коломбье он поочередно побеседовал с двумя высокообразованными, просвещенными и умными людьми, которые с помощью различных оборотов и изворотов, произвольно придаваемых собственным мыслям, поведали ему о тяжком нравственном недуге, снедающем их. Беспокойство и того и другого было связано с состоянием общественных дел, но поводы для беспокойства были диаметрально противоположные. Г-н Бром жил в непрестанной боязни какой-нибудь перемены. Пребывая в атмосфере устойчивости, благополучия и полного спокойствия, которыми наслаждалась страна, он опасался возмущений и страшился всеобщего переворота. Он не мог без трепета развернуть газеты; он каждое утро ожидал найти в них известия о волнениях и мятежах. При таком настроении духа самое незначительное событие и самое обыкновенное происшествие вырастали в его глазах в симптом революции, становились предвестником общего катаклизма. Всегда чувствуя себя накануне мировой катастрофы, он жил под гнетом вечного ужаса.
Господина де Сандрика мучило страдание совершенно иного порядка, более странное и более редкое. Покой докучал ему, нерушимость общественного порядка выводила его из терпения, мирное состояние казалось ему отвратительным, незыблемость человеческих и божеских законов наводила на него смертельную тоску. Он втайне призывал хоть какую-нибудь перемену и, притворяясь, будто боится катастроф, страстно желал их. Этот добрый, ласковый, приветливый и гуманный человек не представлял себе иных радостей, чем разгром его родной страны, земного шара, вселенной, и выискивал даже в мире планет наличие какого-нибудь столкновения или потрясения. Он бывал разочарован, подавлен, печален и хмур, когда язык прессы и внешний вид улиц свидетельствовал о невозмутимом спокойствии народа, – и тем острее страдал от этого, что, зная людей и обладая деловым опытом, прекрасно сознавал, как силен в народах дух консерватизма, традиций, подражательности и послушания и каким ровным и медленным темпом движется общественная жизнь.
На том же приеме у г-жи дю Коломбье Сен-Сильвен отметил другое печальное явление, еще более распространенное и более значительное.
В одном из уголков небольшой гостиной мирно и негромко беседовали председатель Гражданского суда де ла Галисоньер и директор Зоологического сада Лярив-дю-Мон.
– Признаюсь вам, мой друг, – говорил де ла Галисоньер, – мысль о смерти меня убивает. Я непрестанно думаю о ней, я смертельно ее боюсь. Страшит меня не сама смерть, – смерть это пустяки, – а то, что следует за ней, – будущая жизнь. Я верю в нее; я убежден, я уверен в своем бессмертии. Разум, инстинкт, наука, откровение – все говорит мне о существовании нетленной души, все мне доказывает, что сущность, происхождение и удел человеческий именно таковы, как изображает их церковь. Я христианин: я верю в вечные муки; страшная картина этих мук непрерывно преследует меня; ад меня пугает, и этот страх, превосходящий все остальные чувства, лишает меня надежды и всех душевных сил, необходимых для спасения, – он ввергает меня в отчаяние, он сулит мне вечное осуждение, которого я так боюсь. Страх быть навеки проклятым – мое проклятие; ужас перед будущим адом – мой теперешний ад; и, еще живой, я уже заранее претерпеваю загробные муки. Нет пытки, подобной моей, а она с каждым годом, с каждым днем, с каждым часом все мучительнее терзает меня, ибо каждый день, каждое мгновение приближают меня к тому, чего я так страшусь. Моя жизнь – это агония, полная ужаса и смертельной тоски.
Говоря это, председатель суда потрясал руками, точно хотел отмахнуться от неугасимого пламени, которое уже чувствовал вокруг себя.
– Я завидую вам, дорогой друг, – воскликнул г-н Лярив-дю-Мон. – В сравнении со мной вы счастливы; меня тоже терзает мысль о смерти, но как эта мысль не похожа на вашу и насколько она ужаснее! Моя научная работа, мои наблюдения, мои постоянные занятия сравнительной анатомией и тщательные исследования строения материи вполне убедили меня в том, что слова «душа», «разум», «бессмертие», «невещественность» обозначают только физические явления или отрицание этих явлений, что конец жизни является и концом нашего сознания, – словом, что смерть подводит окончательный итог нашему существованию. Нет слова, которое могло бы определить то, что следует за жизнью, ибо употребляемое нами для этого слово «небытие» – лишь знак отрицания, поставленный перед природой в целом. Небытие – это бесконечное «ничто», и это «ничто» объемлет нас. Мы из него выходим и возвращаемся в него; мы между двумя «ничто» – как скорлупка, плавающая в море. «Небытие» – это нечто невозможное, но очевидное, оно не постигается, но оно существует. Несчастье человека, – и несчастье его и преступленье, – заключается в том, что он до всего этого додумался. Остальные животные этого не знают, и нам следовало бы тоже навсегда оставаться в неведении. Быть и перестать быть! Ужас этой мысли вздымает волосы на моей голове; мысль эта не покидает меня. То, что не будет, портит мне и уродует то, что есть, и небытие уже заранее сводит меня на нет. Отвратительная нелепость! Но я уже чувствую, я вижу, как небытие прикасается ко мне.
– Я более вашего достоин сожаления, – возразил г-н де ла Галисоньер. – Каждый раз, как вы произносите это коварное и восхитительное слово «небытие», сладость его, как подушка – больного, ласкает мою душу и нежит меня обещанием покоя и сна.
Но Лярив-дю-Мон с ним не согласился.
– Мои страдания мучительнее ваших, так как и рядовой человек примиряется с мыслью о вечном аде, а для того, чтобы быть неверующим, требуется недюжинная душевная сила. Религиозное воспитание и мистические настроения внушили вам страх перед человеческой жизнью и ненависть к ней. Вы не только христианин и католик, вы – янсенист, носящий в самом себе ту бездну, по краю которой ходил Паскаль [21]. А я люблю жизнь, здешнюю, земную жизнь, такой, как она есть, жизнь со всей ее поганью. Я люблю ее, грубую, гнусную и топорную; я люблю ее, мерзкую, нечистоплотную и гнилую; я люблю ее, тупую, глупую и жестокую; я люблю ее во всей ее непристойности, во всем позоре, во всем безобразии, с ее скверной, с ее уродствами и зловонием, с ее развратом и ее заразой. Когда я чувствую, что она от меня ускользает, что она бежит от меня, я дрожу, как последний трус, я схожу с ума от отчаяния.
По воскресеньям и праздничным дням я сную по людным кварталам, вмешиваюсь в катящуюся по улицам толпу, ныряю в сборища мужчин, женщин и детей, теснящихся вокруг бродячих певцов или перед ярмарочными балаганами; я трусь о грязные юбки, о засаленные куртки, я упиваюсь острыми запахами пота, волос и дыханья. Мне представляется, что в этой жизненной сутолоке я дальше от смерти. Я слышу голос, говорящий мне: «Я одна тебя излечу от страха передо мной; ты устал от моих угроз – я одна тебя успокою». Но я не хочу! Не хочу!
– Увы, – вздохнул председатель суда, – если мы в этой жизни не вылечимся от болезней, терзающих наши души, то смерть не принесет нам покоя.
– А больше всего меня бесит, – продолжал ученый, – что, когда мы с вами оба умрем, у меня даже не будет удовлетворения вам сказать: «Вот видите, ла Галисоньер, я был прав – ничего нет». Я не смогу похвастаться перед вами своей правотой, а вы так никогда и не узнаете о своем заблуждении. Какою ценой достается нам мысль! Вы несчастны, друг мой, потому что ваша мысль шире и могучее мысли животных и большинства людей. А я несчастнее вас, потому что моя мысль вдохновеннее вашей.
Катрфей, уловивший обрывки этого разговора, не особенно ему удивился.
– Это все горести духа, – сказал он, – они, может быть, и мучительны, но мало распространены. Меня больше тревожат страдания обыденного характера – телесные недуги и уродства, сердечные невзгоды и безденежье: именно они затрудняют наши поиски.
– Кроме того, – заметил Сен-Сильвен, – эти два субъекта уж чересчур настойчиво добиваются от своих учений, чтобы они ввергли их в пучину несчастья. Если бы ла Галисоньер обратился к какому-нибудь доброму отцу иезуиту, тот очень скоро успокоил бы его, а Лярив-дю-Мону следовало бы знать, что можно быть безбожником, сохраняя безмятежность духа, как Лукреций, или наслаждаясь этим, как Андре Шенье [22]. Пусть почаще вспоминает стих Гомера: «Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный», и пусть согласится примкнуть в один прекрасный день к своим учителям, философам древности, гуманистам Возрождения, современным ученым и многим другим «превосходнейшим смертным». «Умирают Парис и Елена», – говорит Франсуа Вийон [23]. «Все мы смертны», – говорит Цицерон. «Мы все умираем», – говорит женщина, чью мудрость восхваляет Священное писание во второй Книге Царств.
























