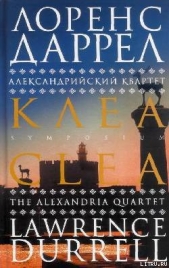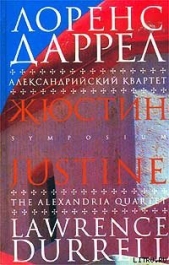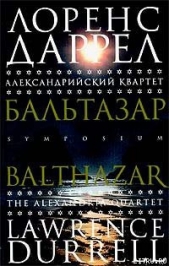Маунтолив
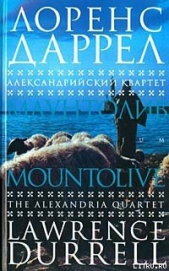
Маунтолив читать книгу онлайн
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррелла, Лоренс Даррелл (1912—1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в нем литературного шарлатана. Третий роман квартета, «Маунтолив» (1958) — это новый и вновь совершенно непредсказуемый взгляд на взаимоотношения уже знакомых персонажей. На этот раз — глазами Дэвида Маунтолива, высокопоставленного дипломата, который после многолетнего отсутствия возвращается в Александрию, к ее тайнам, страстям и интригам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Старик снова кивнул, так, словно каждый его кивок вбивал еще один клин, помогал ему двигаться дальше. Наруз, чье лицо, как зеркало, отражало все нюансы, все оттенки чувств по ходу разговора, тоже кивнул. Затем старик указал на старшего сына.
«Нессим, — сказал он, — посмотри на него . Настоящий копт. Умница, прирожденный дипломат. Какое было бы украшение для египетского дипломатического корпуса. А? Ты сам собираешься стать дипломатом, ты в этом понимаешь побольше моего. Так нет же. Он будет бизнесменом, потому что мы, копты, знаем — это бессмысленно. Бессмысленно ». — Он снова ударил рукой о подлокотник, в уголках рта показалась пена.
Этой-то возможности и ждал, как оказалось, Нессим — он взял отца за руку, смиренно поцеловал ее и сказал с улыбкой:
«Но Дэвиду так или иначе еще придется со всем этим столкнуться. А на сегодня хватит».
И улыбнулся матери через плечо, как будто санкционировал ее приказ — она велела слугам убрать со стола.
Кофе пили на балконе, в неуютном молчании, калека сидел поодаль, отдельно ото всех, и мрачно глядел во тьму; все попытки завязать общий разговор пропали втуне. Старик, надо отдать ему должное, и сам уже стыдился своей вспышки. Он дал себе клятву не касаться более подобных тем при госте, прекрасно понимая, что нарушил — и сознательно — законы гостеприимства. Настала его очередь сожалеть о невозможности вернуть сказанное, как-то загладить впечатление от разговора, поставившего под угрозу их взаимное доверие и расположенность.
И снова Нессимово чувство такта выручило их: он пригласил Маунтолива и Лейлу на прогулку в розовый сад; некоторое время они шли молча, души их и мысли словно набальзамированы были густым ароматом ночных цветов. Когда они отошли достаточно далеко от балкона, чтобы их не могли оттуда услышать, он тихо сказал:
«Дэвид, я надеюсь, ты не держишь зла на отца из-за этой вспышки за обедом. Для него это — больная тема».
«Я понял».
«И знаешь, — горячо заговорила Лейла, явно желая расставить поскорее все точки над i и вернуться к прежней дружеской атмосфере, — как бы он ни был резок с тобой, фактически он прав. Наше положение здесь завидным не назовешь, и все благодаря вам, британцам. Мы здесь нынче нечто вроде тайного общества — мы, блистательная когда-то, ключевая община в нашей собственной стране».
«Но я не понимаю», — начал Маунтолив.
«Все очень просто, — сказал Нессим все так же мягко и тихо. — Есть такое понятие — воинствующая церковь, в ней-то все и дело. Странно, не правда ли, но для нас войны между Крестом и Полумесяцем не было никогда. Это чисто западная придумка. Как и образ кровожадного мусульманина. Мусульмане никогда не преследовали коптов по религиозным мотивам. Напротив, даже и в Коране об Иисусе говорится с уважением, как о предтече Мохаммеда. Помнишь, Лейла цитировала тебе одну из сур, где речь о младенце Иисусе, — помнишь? Он лепил вместе с другими детьми фигурки зверей из глины и потом вдыхал в них жизнь…»
«Я помню».
«И даже в гробнице Мохаммеда, — продолжила Лейла, — был и по-прежнему остается пустой склеп, он ждет тела Иисусова. Согласно пророчеству, его должны похоронить в Медине, у истоков ислама, помнишь? Здесь, в Египте, мусульмане не испытывают к христианскому Богу ничего, кроме любви и почтения. Даже и сегодня. Любого спроси, спроси муэдзина». — («Спроси любого, говорящего правду», — ибо ни один нечистый, пьяница, безумный или женщина не может быть допущен призывать правоверных к молитве.)
«В глубине души вы были и остались крестоносцами», — сказал Нессим мягко, не без иронии, все с той же улыбкой на губах. Он развернулся и пошел прочь меж розовых кустов, оставив их вдвоем. И ладонь Лейлы тут же отправилась искать знакомого пожатья.
«Не бери в голову, — сказала она тихо, совсем другим голосом. — Придет день, и мы вернемся, с вашей ли помощью, без вас ли! У нас крепкая память!»
Они посидели немного на обломке упавшей мраморной колонны и говорили совсем о другом; они остались вдвоем, и большие темы ушли как-то сами собой.
«Какая темень сегодня. И всего одна звезда. Утром, значит, будет дымка. Знаешь, мусульмане верят, что у каждого человека есть своя звезда на небе; когда он рождается, звезда загорается, когда умирает — гаснет. Может быть, это твоя звезда, Дэвид Маунтолив?»
«Или твоя?»
«Для меня слишком яркая. Они, видишь ли, бледнеют со временем. Моя, должно быть, совсем тусклая, я ведь перевалила уже за середину. А когда ты уедешь, она потускнеет еще».
Они обнялись.
Они строили планы, они договорились видеться как можно чаще; он собирался вернуться, как только получит очередной отпуск.
«Но ты ведь не останешься в Египте надолго, — сказала она; печальная улыбка, смиренный взгляд. — Скоро ты получишь назначение. Хотела бы я знать куда. Ты забудешь о нас — нет, нет, англичане сохраняют верность старым друзьям, так ведь? Поцелуй меня».
«Давай не будем думать об этом сейчас, — сказал Маунтолив. У него, если честно, просто не было сил отнестись к предстоящей разлуке спокойно. — Давай о чем-нибудь другом. Кстати, я ездил вчера в Александрию и обыскал весь город, покуда не нашел подходящих подарков Али и прочим слугам».
«И что же ты нашел?»
В комнате у него в чемодане лежали синего стекла бутылочки с водой из Священного Колодца Зем Зем. Вот их-то он и собирался раздать в качестве pourboires. [9]
«Как ты думаешь, ничего, если они получат их из рук неверного?» — спросил он с беспокойством, и Лейла не могла не восхититься им.
«Как здорово, Дэвид! Так это по-английски, столько такта! Что мы будем делать без тебя, когда ты уедешь?»
И он, как ни странно, остался собою доволен. Можно ли было представить себе в ту минуту, что пройдет всего несколько дней, и они лишены будут возможности обняться вот так или сидеть в тишине бок о бок и слушать ритмический шорох крови, шорох времени, утекающего прочь, в молчание — в мертвую пустоту пережитого, ушедшего? Он гнал от себя подобные мысли прочь — уворачивался от острого лезвия правды. Но вот она сказала:
«Ты не бойся, я уже продумала все, что будет с нами, на годы вперед; не улыбайся, может, даже и лучше выйдет, если мы не сможем спать друг с другом и начнем… что? Я не знаю — ну, думать друг о друге, видеть друг друга издалека; как любовники, я имею в виду, которым пришлось разлучиться, которые, может быть, и не должны были становиться любовниками никогда; я стану писать тебе, часто. Начнется наша новая история».
«Перестань, пожалуйста», — сказал он, чувствуя, как сгущается над ним облако безысходности.
«Почему? — отозвалась она и, улыбнувшись, тихонько коснулась губами обоих его висков. — Я опытней тебя. Поживем — увидим».
За легкостью тона он угадал нечто твердое, раз и навсегда устоявшееся, существующее как бы вне времени, — самую суть опыта, которого ему пока недоставало. В ней было спокойное, уверенное благородство, то самое свойство, которое даже и несчастье позволяет принимать с легким сердцем. В ночь перед его отъездом она, хоть и обещала, так и не пришла к нему в комнату. Она была в достаточной степени женщина, чтобы не позволить себе сознательно смягчить боль разлуки: так она будет помниться дольше. За завтраком вид у него был измотанный, глаза усталые, он явно страдал, и ей это было в радость.
Когда он уезжал, она проводила его до переправы, но присутствие Наруза и Нессима сделало любой разговор на интимные темы невозможным, и снова она едва ли не обрадовалась этому обстоятельству. Честно говоря, им уже и нечего было сказать друг другу. Она, сама того не зная, всячески пыталась избежать рутины, некоего привычного ритма, непременного спутника любви физической, — от него-то любовь и ветшает в конце концов. Она хотела, чтобы образ ее остался с ним — четкий, как в фокусе, и без двусмысленных деталей; ибо одна лишь она понимала, что это расставание есть некое лекало, некий образец для расставания куда более определенного и окончательного, расставания, которое, если им и в самом деле суждено отныне сообщаться только лишь посредством слов и бумаги, может отнять у нее Маунтолива навсегда. Сколько писем о любви можно написать, не испытывая, как недостатка воздуха, жажды нового — новой темы, нового сюжета, — дюжину? Чем богаче человеческий опыт, тем более он ограничен возможностью пересказать его, выразить. Слова убивают любовь так же, как убивают они все прочее. Она уже знала, как нужно изменить, куда нужно увести любовь их, чтобы сделать ее от разлуки богаче; но Маунтолив был еще слишком молод, чтобы понять, какое она ему предлагает богатство — открытую сокровищницу воображения. Ей придется подождать, пока он повзрослеет. Она понимала совершенно отчетливо, что любит его и вместе с тем согласна была больше никогда его не видеть. Ее любовь уже смирилась с потерей объекта — с собственною своею смертью — и не сожалела о ней. Это обстоятельство, столь ясно ею осмысленное, дало ей колоссальное перед ним преимущество, — ибо он по-прежнему плескался в неспокойном море чувств, переменчивых и странных, в порывах страсти, жалости к себе и прочих разных младенческих недугах — что поделаешь, режутся зубы, — тогда как она из самой безнадежности, из покинутости своей тянула соки силы и уверенности в себе. Зрелость ума и духа питали ее. И хотя ей и в самом деле было искренне жаль, что он уезжает так скоро, хоть ей и нравилось видеть, как он страдает, нравилось — уже ждать его возвращения, тем не менее сказать ему «прощай» оказалось почти легко.