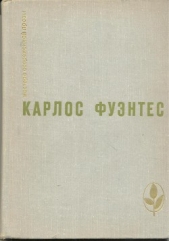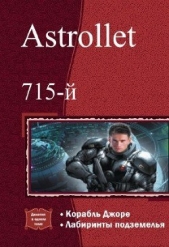Смерть Артемио Круса
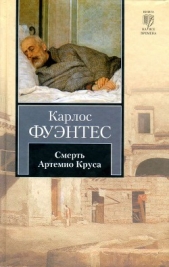
Смерть Артемио Круса читать книгу онлайн
Одно из величайших литературных произведений XX века. Один из самых гениальных, многослойных, многоуровневых романов в истории щедрой талантами латиноамериканской прозы. Сколько лицу революции? И правда ли, что больше всего повезло тем ее героям, которые успели вовремя погибнуть? Артемио Крус, соратник Панчо Вильи, умирает, овеянный славой — и забытый. И вместе с ним умирает и эпоха, и душа этой эпохи… Нет больше героев «времени перемен». И нет места в современном, спокойном мире тем, кто не успел красиво умереть на полях сражений…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я думал, ты поймешь.
Дон Гамалиэль мягко качнулся в плетеной качалке, и посмотрел на небо. Одна из последних ночей летней поры. Небосвод так чист, что, если прищурить глаза, можно разглядеть цвет каждой звезды. Девушка прижала ладони к вспыхнувшим щекам.
— А падре что сказал вам? Ведь Он — еретик! Не почитает ни Бога, никого… И вы верите его сказке?
— Успокойся. Счастье не всегда нуждается в благословении божьем.
— Вы верите его сказке? Почему же Гонсало погиб, а этот сеньор нет? Если оба были приговорены к смерти и находились в одной камере, почему не погибли оба? Я знаю, знаю — Он сказал нам неправду, он выдумал сказку, чтобы вас разжалобить, а меня…
Дон Гамалиэль перестал качаться. Все так хорошо складывалось, без лишних волнений! И вот теперь благодаря женской интуиции всплывают аргументы, которые уже обдуманы, взвешены и отброшены, как ненужные.
— В двадцать лет всегда играет воображение. — Дон Гамалиэль приподнялся и потушил сигару. — Но если хочешь знать правду, я скажу тебе. Этот человек может спасти нас. Больше мне нечего прибавить.
Старик вздохнул и, протянув руку, коснулся локтя дочери.
— Подумай о последних годах твоего отца. Или я не заслужил немного…
— Да, папа, я ничего не говорю…
— Подумай и о себе.
Она опустила голову:
— Да, я понимаю. Я знала… Что-нибудь такое должно было случиться, когда Гонсало ушел из дому. Если бы с нами был…
— Но его нет.
— Брат не думал обо мне. Кто знает, о чем ему думалось.
Идя по холодным коридорам старого дома вслед за пятном света — дон Гамалиэль нес над головой лампу, — девушка старалась вызвать в памяти образы, давно преданные забвению или потускневшие. Ей вспомнились напряженные потные лица школьных товарищей Гонсало, долгие дискуссии в задней комнате; вспомнились яркие, горящие, упрямые глаза брата — этого одержимого, который, казалось, витал порой где-то в облаках, но любил комфорт, вкусные блюда, вино, книги, а в очередном припадке ярости бичевал свои гурманские и барские замашки. Вспомнилась замкнутость Луисы, невестки; их шумные ссоры, затихавшие с ее появлением в зале; странный плач жены Гонсало, звучавший как хохот, когда пришло сообщение о его смерти; тайный отъезд Луисы однажды утром, когда все спали. Но Каталина не спала и из-за оконной занавески увидела, как мужчина в котелке и с тростью подхватил цепкой рукой Луису под локоть и помог ей вместе с ребенком подняться в черную коляску, где уже стояли вдовьи сундуки.
Оставалось одно: отомстить за смерть брата — дон Гамалиэль поцеловал ее в лоб и открыл дверь спальни, — отомстить, отдаваясь этому человеку, но отказывая ему в нежности, которую Он мог ждать от нее. Похоронить его заживо, вливать ему в душу горечь, пока Он не отравится. Каталина робко взглянула на себя в зеркало, словно боялась увидеть на лице отпечаток своих дум. Вот так отомстят они с отцом за уход Гонсало, за его глупый идеализм: она, двадцатилетняя девушка, будет отдана — и не надо плакать, жалеть себя, свою юность, — будет отдана человеку, который подставил Гонсало под пулю и о котором она не может думать без чувства сострадания к самой себе и к погибшему брату, без яростных всхлипываний, без судорожных гримас. Если никогда не узнать правды, все равно она будет верить только в то, что считает правдой.
Каталина сняла черные чулки. Поглаживая ладонями ноги, закрыла глаза: нет, не надо, нельзя вспоминать об этой грубой сильной ноге, искавшей под столом ее ногу, — и сердце вдруг замерло от чего-то неизведанного, неодолимого. Но если тело сотворено не Господом Богом — она нагнулась, уткнувшись лбом в переплетенные пальцы рук, — а просто плоть от плоти людской, то дух — совсем другое. И нельзя позволить телу предаваться наслаждениям, выходить из повиновения, жаждать нежности, если душа это запрещает. Она откинула простыню и скользнула в постель, не открывая глаз. Протянула руку и погасила лампу. Зарылась лицом в подушки. Об этом нельзя думать. Нет, нет, нельзя. Надо сказать правду. Надо назвать другое имя, поведать обо всем отцу. Ох, нет. К чему терзать отца? Пусть все будет так. Да. И скорее — в следующем месяце. Пусть этот человек возьмет бумаги, землю, тело Каталины Берналь… Пропади все пропадом… Рамон… Нет! этого имени нельзя называть, уже нельзя.
Она заснула.
— Вы же сами говорили, дон Гамалиэль, — сказал гость, вернувшись на следующее утро. — Нельзя остановить ход событий. Давайте отдадим те участки крестьянам — земля там неважная и доход им принесет небольшой. Давайте раздробим землю, чтобы они смогли сажать только овощи. Вы увидите: хотя им и придется благодарить нас за это, они в конце концов на своих никудышных полях заставят работать жен, а сами снова будут обрабатывать нашу плодородную землю. Учтите другое: вы даже сможете прослыть героем аграрной реформы без всякого для себя ущерба.
Старик внимательно посмотрел на него, спрятав улыбку в волнистых белых усах:
— Вы уже говорили с ней?
— Уже говорил…
Она не могла пересилить себя. Подбородок дрожал, когда Он протянул руку и попытался приподнять лицо с опущенными глазами. Впервые прикоснулся Он к этой коже, нежной, как крем, как абрикос. А вокруг разливался терпкий аромат цветов в патио, трав после дождя, прелой земли. Он любил ее. Знал, прикасаясь к ней, что любил. Надо было заставить ее понять, что его любовь настоящая, вопреки странно сложившимся обстоятельствам. Он мог любить ее так, как любил тогда, первый раз в жизни и знал теперь, как можно выражать любовь. Он снова дотронулся до пылавших щек девушки. Она не выдержала: слезы сверкнули в ресницах, подбородок рванулся из чужих пальцев.
— Не бойся, тебе нечего бояться, — шептал мужчина, ища ее губы. — Я сумею любить тебя…
— Мы должны благодарить вас… За вашу заботу… — ответила она едва слышно.
Он поднял руку и погладил волосы Каталины.
— Ты поняла, да? Будешь жить со мной. Кое-что выбросишь из головы… Я обещаю уважать твои тайны… Но ты должна обещать мне никогда больше…
Она взглянула на него, и глаза ее сузились от ненависти, какой никогда еще не испытывала. В горле пересохло. Что это за чудовище? Что за человек, который все знает, все берет и все ломает?
— Молчи… — Она резко отстранилась от него.
— Я разговаривал с ним. Слабый парень. Он не любил тебя, как надо. Ничего не стоило спровадить его.
Каталина провела пальцами по щекам, словно стирая следы его прикосновений:
— Да, не такой сильный, как ты… Не такое животное, как ты….
Она чуть не закричала, когда Он схватил ее за руку и улыбнулся, сжав кулак:
— Этот самый Рамонсито ушел из Пуэблы. Ты его никогда больше не увидишь… — И отпустил ее.
Она пошла вдоль патио к разноцветным клеткам. Звонкий птичий гомон. Одну за другой поднимала раскрашенные решетчатые дверки. Он, не шевелясь, наблюдал за нею. Малиновка выглянула из клетки и взвилась в небо. Сенсонтль заупрямился — привык к своей воде и корму. Каталина посадила его на мизинец, поцеловала в крыло и подбросила в воздух. Когда улетела последняя птица, она закрыла глаза, позволила этому человеку обнять себя за плечи и увести в дом, где в библиотеке сидел, ожидая их, дон Гамалиэль, снова спокойный и безмятежный.
* * *
Я чувствую, как чьи-то руки берут меня под мышки и удобнее устраивают на мягких подушках. Прохладное полотно — бальзам для моего тела, горящего и зябкого. Открываю глаза и вижу перед собой развернутую газету, скрывающую чье-то лицо. Думаю, что «Вида мехикана» [20] выходит и всегда будет выходить, день заднем, и никакая сила человеческая не помешает этому. Тереса — ах, вот кто читает газету — в тревоге ее сложила.
— Что с вами? Вам плохо?
Жестом успокаиваю дочь, и она снова берется за газету. Да, я доволен, — кажется, придумал забавную штуку. В самом деле. Это было бы здорово — оставить для опубликования в газете посмертную передовую, рассказать всю правду о моем честном соблюдении принципа свободы печати… Ох, от волнения снова резь в животе. Невольно тяну к Тересе руку с просьбой о помощи, но моя дочь с головой погрузилась в чтение. Недавно я видел угасание дня за стеклами окон и слышал жалобный визг жалюзи. А сейчас, в полутьме спальни с тяжелым потолком и дубовыми шкафами, не могу рассмотреть людей там, дальше. Спальня очень велика. Но жена, конечно, здесь. Где — нибудь сидит, выпрямившись и забыв намазать губы, мнет в руках носовой платок и, конечно, не слышит, как я шепчу: