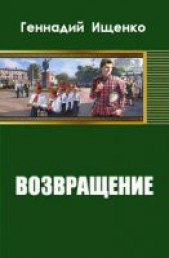Я ищу детство
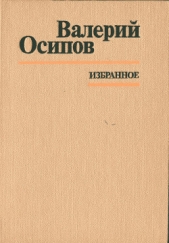
Я ищу детство читать книгу онлайн
Московский писатель Валерий Осипов (1930–1987) буквально ворвался в литературную жизнь конца 50-х годов своей удивительно свежей, талантливой повестью «Неотправленное письмо».
Кроме нее в «Избранное» Валерия Осипова вошли повести «Только телеграммы», «Серебристый грибной дождь» и роман «Я ищу детство».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он шёл низко, на бреющем полёте, над золотистым пшеничным полем чёрный немецкий самолёт, низко и неправдоподобно стремительно. Кресты на его крыльях мелькнули над нами, как взмах чьей-то чешуйчатой хищной лапы с перепонками между когтями. Гром мотора слился с грохотом пулемётов, и мы даже не сразу поняли, почему побежали со всего поля женщины, побросав серпы и косы, в дальний конец. Но когда оттуда донеслись крики и плач, стало ясно, что там произошло что-то нехорошее, страшное. Мы тоже побежали в дальний конец и, прибежав, увидели двух убитых молодых колхозниц. Они лежали на поваленных снопах пшеницы все в крови, с открытыми ртами и уже остекленевшими глазами. Праздничные их белые кофточки и холщовые юбки были как-то по-звериному измолоты, разодраны в клочья крупнокалиберными пулями авиационных пулемётов, и было видно их молодое белое женское тело, совсем не для этого жившее на свете, не ожидавшее такой жестокой участи, не подозревавшее даже о своей смерти, случившейся так неожиданно и так рано.
Рядом с ними на поваленных снопах сидели несколько раненых женщин, зажимавших раны руками, тихо стонавших и плакавших, а вокруг них стояли в белых платках на головах бабы и деревенские девчонки, и какой-то общий, приглушённый, нечеловеческий вой волнами исходил от них.
Мы оцепенели от ужаса, от этой невероятной по своей жестокости и неправдоподобности картины. Такое никому из нас не могло никогда даже присниться.
Подъехала подвода, убитых женщин положили на неё, рядом посадили раненых, и окружённая стонущей, плачущей, воющей толпой подвода тронулась в деревню. Мы тоже двинулись было за ней, но в это время кто-то увидел, как по полю к нам бегут с другого края две перемазанные кровью наши девчонки из третьего класса.
— Люсю… Люсю… Волкову… там… убило, — давясь судорожным плачем, зажимая рот руками, заговорили они, глотая рыдания и размазывая по лицу чужую кровь и свои слёзы.
…Она лежала ничком на земле, маленькая Люся Волкова, староста третьего класса, подняв своим худеньким и почти невесомым тельцем несколько пшеничных стебельков. На голове у неё был венок из васильков, и подлая крупнокалиберная пуля, попав в кудрявую девчоночью голову, смешала всё в чудовищную кашу — мозги, кости, васильки, кудрявые волосы… И ещё две авиационные пули, каждой из которых хватило бы, чтобы убить мамонта, попали Люсе в спину, измочалив и изорвав в клочья её угловатую, голенастую фигурку.
Это было такое непереносимое, такое рвущее душу и сердце, такое разрушающее все самые последние представления о несправедливости и зле, такое переворачивающее весь мир вниз головой зрелище, что всё помутилось у меня тогда в глазах, подсеклись ноги, заломило затылок, и я, чувствуя, что могу потерять сознание, сел на землю и заплакал.
Вокруг меня, не в силах больше стоять на ногах, сидели на пшеничном поле и плакали все наши мальчишки и девчонки от первого до четвёртого класса.
Хрустальными, родниковыми детскими слезами оплакивали мы голенастую, угловатую девочку, старосту третьего класса маленькую Люсю Волкову, убитую с бреющего полёта из крупнокалиберного авиационного пулемёта.
Через поле к нам, сидящим в пшенице, бежали учителя. Их не было с нами, когда мы отправились помогать убирать урожай, собирать колоски. Они оставались в деревне, чтобы организовать наше питание, и ничего не знали. И вот теперь, узнав, бежали, задыхаясь, к нам через поле.
Подбежав и увидев всё, они оцепенело остановились, не веря своим глазам, и добрые лица их исказила судорога ужаса. Они бросились поднимать нас с земли, обнимать, целовать, прижимать к себе, гладить по головам, нас — рыдающих и стонущих от непереносимого горя, выходящего за рамки наших детских представлений о жизни, затопившего наши детские сердца океаном хлынувшего с неба на пшеничное поле чёрного металлического зла.
Подводы не было. Кто-то из учителей принёс рваную мешковину, Люсю положили на неё, подняли, и наша траурная детская процессия тронулась в деревню.
А через час в деревню со стороны леса вошёл хромой старик с забинтованной головой. На плече у него висели немецкие сапоги, в руках был дробовик, которым он гнал перед собой, тыча стволом в спину, пленного немецкого парашютиста.
В жизни своей я не видел, чтобы человек, израненный в стольких местах, мог бы ещё передвигаться на своих собственных ногах. Комбинезон парашютиста весь набух от крови, половины волос на его голове не было — вместо них зияла покрытая пылью и мухами рана, кожа на лице висела клочьями, один глаз исчез под огромным багрово-фиолетовым синяком, руки были искалечены и перебиты, плечи и грудь, видимо, прострелены, босые ноги покрыты запёкшимся гноем…
Немец еле шёл. Он громко стонал и всё время ложился на землю, но хромой старик с берданкой пинками поднимал его и гнал вперёд.
Старик подвёл парашютиста к дому сельсовета. Немец тут же опустился на траву и беспомощно повалился на бок. Старик достал из кармана верёвку, скрутил лежащему парашютисту сзади руки и, чуть приподняв его, привязал к коновязи. Потом он вошёл в дом.
Около сельсовета лежали на деревянных щитах убитые в поле молодые колхозницы и наша Люся Волкова. Их собирались торжественно похоронить, но по деревне прошёл слух, что где-то неподалёку высадился немецкий парашютный десант, и сейчас в сельсовете в связи с этим началась тихая паника. Наши учителя обрывали телефон в район, требуя немедленно вывезти детей, грозя кому-то высокими чинами и постами родителей кого-то из нас.
Десятка три деревенских женщин и все мы от первого до четвёртого класса уныло стояли вокруг убитых. Когда хромой старик привёл пленного парашютиста, мы все повернулись в их сторону. Конечно, этот немец не был пилот того самолёта, пролетевшего утром над пшеничным полем. Но он был в авиационном комбинезоне — он был оттуда, сверху, с неба, откуда пришла смерть. И мы все молчаливой, хмурой толпой нестройно придвинулись к нему, но, увидев, что он, потеряв сознание и роняя на землю капли крови, бессильно повис на верёвках, привязанный к коновязи, остановились шагах в десяти.
Кто-то из деревенских мальчишек поднял камень и бросил в парашютиста. И сразу же все бабы заворчали и замахали руками на бросившего:
— Нишкни, уймись, неслуханный!.. Ишь раскидался… Кто приказывал камнями-то?.. Он, может, ещё сгодится на что-нибудь, пленный…
Из распахнутых настежь окон сельсовета было слышно, как хромой старик крутит ручку аппарата, звонит куда-то и кричит, что делать, мол, с немцем, куда его девать, почти неживого? Наши учителя вырывали у старика телефон и снова звонили в район, грозными и умоляющими голосами требуя машины для детей… Потом опять крутил ручку аппарата и что-то кричал в телефон хромой старик…
А мы, дети от первого до четвёртого класса, стояли низкорослой толпой в десяти шагах от повисшего на коновязи головой вниз немецкого парашютиста, роняющего на землю одну за другой крупные капли крови. А рядом на деревянных щитах лежали убитые колхозницы и маленькая Люся Волкова.
Хромой старик, никуда не дозвонившись и ни до чего не докричавшись, с озлобленным, решительным лицом и висящими на плече крепкими немецкими сапогами, которые он по всем правилам военного времени, очевидно, снял с пленного парашютиста, вышел из сельсовета. Он мельком, хмуро взглянул на нас, потом подошёл к убитым колхозницам, несколько секунд сердито смотрел на них, вздохнул и перекрестился. После чего поднял с земли приготовленную для похорон лопату, вернулся к пленному, растолкал его, развязал ему руки и погнал на пустырь за сельсоветом.
Мы все толпой двинулись за ними.
Старик сунул немцу лопату и показал рукой — копай! Парашютист всё понял. Собрав последние силы, он выпрямился, оглядел всех нас, низкорослой толпой стоявших вокруг него, и начал рыть себе могилу. Хромой старик хмуро и недовольно следил за его медленными движениями.
Парашютисту неудобно было нажимать на лопату босой ногой. Он тяжело взглянул на старика и показал рукой на свою босую ногу. Старик понял, снял трофейные сапоги с плеча, развязал тесёмки и бросил пленному один сапог. Немец с трудом натянул сапог. Мы молча стояли вокруг с бесстрастными, повзрослевшими лицами и остановившимися глазами, наблюдая эту сцену, о которой ещё день назад мы все ужаснулись бы даже и подумать. (Может быть, с того самого дня и появилось у меня в глазах это «остановившееся» выражение, которое запечатлелось на фотографии с белым уголком, на которую я снялся для какого-то документа, когда вернулся в Москву. Хотя какой документ мог быть нужен тогда мне, одиннадцатилетнему?.. Значит, был нужен, время было военное, сорок первый год.)