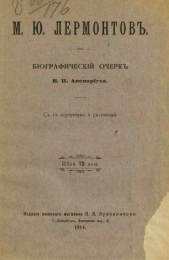Лермонтов
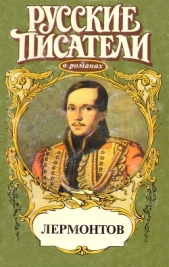
Лермонтов читать книгу онлайн
Произведения, включённые в книгу, посвящены Михаилу Юрьевичу Лермонтову и охватывают всю жизнь великого поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лермонтов затянулся, притворяясь, будто следит за дымом, который клубился и исчезал в потоке лучей, перерезавших комнату. Андрей Иванович, укладывавший погребец, снисходительно-горестно покачал склонённой головой: вот, мол, кто сбил дитятю в гусары-то, а я только теперь догадался!..
13
В течение двух дней после свидания с бабушкой Лермонтов чувствовал себя отлично: хорошо спал, с аппетитом ел и много писал. У него уже полностью (правда, ещё без названия) было написано большое стихотворение в диалогах о литературе, где действовал князь Пётр Андреевич Вяземский — конечно, без имени и как читатель; журналист, под которым можно было подразумевать многих, и писатель, в котором отчасти Лермонтов изобразил себя. Были и ещё кое-какие наброски, которые тоже писались легко и скоро должны были прийти к окончанию.
Но всё пошло прахом, когда на третий день пришёл Аким Шан-Гирей и первое, что сделал, это показал Лермонтову мартовский номер «Отечественных записок», и Лермонтов увидел напечатанным сочинение, которое считал давно сожжённым, как игроки в bouts-rimes [127] сжигают плоды своего скороспелого творчества. «Большой свет», повесть в двух танцах графа Соллогуба», — оторопело прочитал Лермонтов знакомое название. «В двух танцах — должно быть, для приманки читательниц», — некстати подумалось ему.
Отодвинув свои бумаги, Лермонтов стал листать журнал, надеясь в глубине души, что автор повести — друг и соратник, так сказать, на литературной ниве — убрал из рукописи оскорбительные места. Он полистал повесть в начале, в середине, заглянул в конец. Нет! Всё так, как было: повесть о глупеньком армейском корнете Мишеле Леонине, которого не пускают в гостиные и который умудряется при этом быть влюблённым во всех светских львиц, откровенно его презирающих и высмеивающих.
Это бы ещё ничего: Лермонтов — не армейский корнет, в гостиные его не только пускают, а зазывают, что же касается манеры влюбляться в нескольких женщин сразу, то он, пожалуй, не влюблён даже в Машет; так что всё это его не касается и обидеть не может. Правда, изображён здесь и Соболевский под фамилией Сафьева, такой же дурацкой, как и Леонин, со своими обычными речами, чаще всего обращёнными к нему, к Лермонтову. И кто знает их обоих, не может не догадаться, кто такие Леонин и Сафьев. Но и на это можно было бы махнуть рукой. Махнуть и забыть...
Но можно ли махнуть рукой на то, что автор (он и себя изобразил в виде благородного героя, князя Щетинина) подло воспользовался откровенностью Лермонтова и карикатурно воспроизвёл свои разговоры с ним?
Один человек много, часто, доверчиво рассказывает другому о вещах не бытовых, не житейских, а выходящих за рамки обыденности — возвышенных, как называют люди; поверяет ему самые задушевные свои мысли и чувства, а тот потом идёт и со смехом пересказывает всё это толпе — теми же или, вернее, почти теми же словами, и получается ложь и клевета...
Листая журнал, Лермонтов чувствовал, как жарко у него рдеют щёки; он испытывал острый, мучительный стыд за свою откровенность, которая казалась ему теперь сентиментальной болтливостью, и в самом деле достойной осмеяния.
— За такое — не на дуэль, а просто морду набить! — мрачно сказал Аким, и Лермонтов, не поднимая головы, чувствовал на своём горящем лице его взгляд.
Пересиливая себя и придавая своему голосу ироническую шутливость, Лермонтов наконец поднял голову и сказал:
— У нас в школе учитель танцев за дополнительную плату обучал юнкеров хорошим манерам. А у вас?
Аким в замешательстве посмотрел на Лермонтова и пожал плечами.
— Видишь ли, эта повестушка... — сказал он и запнулся. — Одним словом, не ради неё я пришёл...
И Аким, волнуясь и по нескольку раз повторяя одни и те же подробности, рассказал, что Барант, разъезжая по Петербургу, чуть ли не всех встречных и поперечных уверяет, будто Лермонтов дал на суде ложное показание — о том, что стрелял в воздух, — и что он, Барант, когда Лермонтова освободят, непременно накажет его.
— Ах, вот как! Я убью этого сукина сына! — С побелевшими от бешенства глазами Лермонтов вскочил и ударил кулаком по столу. — Теперь уж я не сделаю этой глупости, за которую все старики в полку считают меня ослом!..
В этом бешенстве вылилась вся боль и обида, причинённая Лермонтову предательством Соллогуба. Он и в самом деле мог бы убить теперь Баранта, окажись тот перед ним, и искренне верил, что именно таково мнение о нём, Лермонтове, «полковых стариков». Аким, не ожидавший такого действия своих слов, испугался.
— Ну-ну, Мишель! — растерянно сказал он, — А как же уроки хорошего тона?
Лермонтов внимательно оглядел его и снова опустился на стул. Придвинув к себе лист бумаги, он стал что-то писать и, не поднимая головы, сказал:
— Сейчас ты пойдёшь к нему с моей запиской и приведёшь его сюда! (Лермонтов разумел Баранта).
Аким возразил, что не может, потому что едет в училище принимать дежурство. Лермонтов опять внимательно посмотрел на него и отбросил перо.
— Верно, — сказал он. — И вообще никого, кто носит мундир, не стоит вмешивать сюда. Впрочем, сейчас придёт с ужином Андрей Иванович, я пошлю его...
— Куда? В посольство? — удивлённо спросил Аким.
— Да нет! — с досадой ответил Лермонтов, — К тому, кто приведёт мне сукина сына!..
Когда Андрей Иванович появился, Лермонтов дал ему уже запечатанное короткое французское письмо. Андрей Иванович должен был вручить его нигде не служившему графу Александру Браницкому, брату однополчанина Лермонтова, Ксаверия Браницкого. Братья жили на Невском, между Гостиным двором и Казанским собором.
— Ты тоже можешь идти, — сказал Лермонтов Акиму и остался один.
В нетерпении он бродил по комнате, забыв об ужине и думая о том, что Андрей Иванович может не застать Александра, а если и застанет, то сам Александр может не застать Баранта или же Барант может отказаться от свидания с Лермонтовым. Наконец, может произойти и так, что Барант приедет, но не будет допущен караульным начальником...
Лермонтов приоткрыл дверь в коридор и с удивлением увидел, что на часах уже стоит новый караульный, совсем молоденький, — видно, из рекрутов — матрос Гвардейского экипажа. Лермонтов попросил вызвать офицера. Молоденький матрос охотно, даже как будто с удовольствием, позвонил в колокол, появился разводящий, и Лермонтов повторил свою просьбу ему. Разводящий, высокий костлявый унтер со смуглым рябым лицом, недовольно покачал головой.
— Уж и не знаю, ваше благородие, — глухим басом сказал он, — к нам дежурный по караулам прибывши. Мичман с ним заняты...
— Да ты только доложи, большего я не прошу, — с мягкой настойчивостью сказал Лермонтов.
Унтер ушёл, ничего не ответив. Лермонтов, не зная, доложит он или нет, нетерпеливо ходил по комнате, то и дело подходил к двери, открывал её и снова закрывал.
— Слышь, Данилыч, — услышал он голос часового, подойдя в очередной раз к двери, но ещё не успев открыть её, — а жаль всё-таки офицерика, что здесь сидит. Всё, бедняга, слышно, мечется, ровно зверь в клетке. Тоже жаль, хоть и пехоташка...
— Не пехоташка он, а гусар, — ответил бас рябого унтера, — конный, значится.
— Конный, пеший — всё едино, не наш, не флотский. Ан жаль...
— Это-то вестимо, — неохотно подтвердил унтер.
Лермонтов открыл дверь и спросил унтера, доложил ли он офицеру.
— Доложить-то я доложил, — угрюмо ответил тот, — да вылазить-то не положено, ваше благородие...
Лермонтов хотел уже захлопнуть дверь, но, случайно взглянув вдоль коридора, увидел знакомое лицо: разговаривая на ходу с крупным горбоносым шатеном в чёрном флотском сюртуке и издали дружески помахивая Лермонтову рукой, приближался элегантный капитан-лейтенант, в золотом офицерском шарфе и при сабле. Это был Эссен, сын петербургского военного губернатора, несколько раз встречавшийся Лермонтову в разных домах. Он и был дежурный по караулам. Горбоносый шатен назвался мичманом Кригером, начальником караула. Они оба прошли в комнату Лермонтова; Эссен бегло её оглядел и, задержав взгляд на бумагах, разбросанных по столу, сказал с сочувственно-иронической улыбкой: