Истоки
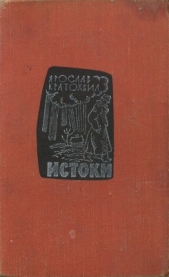
Истоки читать книгу онлайн
Роман Ярослава Кратохвила «Истоки» посвящен жизни военнопленных чехов и словаков в революционной России 1916–1917 годов. Вместо патетического прославления «героического» похода чехословаков в России Кратохвил повествует о большой трагедии военнопленных — чехов и словаков, втянутых в контрреволюционную авантюру международной реакции против молодой России, и весьма неприглядной роли в этом чехословацких буржуазных руководителей, а так же раскрывает жизненные истоки революционного движения, захватывавшего все более широкие слои крестьянства, солдат, как русских, так и иноземных.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так же молча возвращались они в усадьбу. Гавел несмело и вопросительно поглядывал сбоку на товарища, увиденного по-новому. На душе у него становилось все теплее, и наконец он засмеялся:
— Вот чертова Овца!
Это теплое слово кольнуло Беранека в сердце упреком. Он нахмурился. Но даже это хмурое молчание поднималось с самого дна его угловатого сердца.
На развилке Беранек хотел было повернуть к хутору, но Гавел решительно пригласил друга:
— Зайдем, чайку выпьем!
— Только никому не говори, — попросил, вдруг встревожившись, Беранек и побагровел.
— Само собой, не скажу, Овечка дорогая! — воскликнул Гавел, заранее и от души прощая ему возможное отступление от сегодняшнего порыва.
Он пропустил Беранека вперед.
— Ах, чертова Овца, — все повторял он. — Поглядите-ка на этого красавца!..
Его неотступное внимание Беранек ощущал, как мурашки на спине, чувствовал, как каждый шаг словно обнажает его, и в конце концов ему стало так же горько, как некрасивой девушке, которую в насмешку назвали красавицей.
Он робко оправдывался:
— Да я, понимаешь, просто, чтобы быть не последним среди вас… — Он засмеялся с наигранной бодростью. — Как говорится, не подоспеть бы к шапочному разбору. А то как показаться дома после войны? В армии-то меня уж куда-нибудь определят. Работать я умею, стрелять тоже.
Идя двором, они снова замолчали — им казалось, что окна всех зданий оглядываются на них. Гавел ввел Беранека в избу, распахнув перед ним настежь дверь, и посадил под изображением Яна Гуса. На сей раз Беранек охотно принял угощенье — сладкий чай с белым хлебом. Чай он пил церемонно, с крестьянской неторопливостью, говорил как можно меньше и то все о безразличном. Притворялся, что спешит по делу. Когда же Сиротки сами заговаривали о чешской политике, Беранек отмалчивался с серьезным лицом и предоставлял им выговориться.
Домой он пришел поздно и с Бауэром увиделся лишь утром. Однако в стенах конторы он долго не осмеливался заговорить и только перед самым отъездом на почту твердо шагнул к столу Бауэра. Выждал, — как делал всегда, и в батраках и в солдатах, — когда начальник сам поднимет на него глаза, и тогда, покраснев, отрапортовал:
— Пан взводный, прошу записать меня прямо в Дружину.
Бауэр воззрился на него с удивлением, не сразу найдя, что ответить. Краска медленно заливала и его лицо, как бы перейдя к нему от Беранека.
Поэтому Беранек виноватым тоном добавил:
— А на что я еще гожусь?
— Да… да… — наконец выдавил Бауэр, все еще в полной растерянности. — Но вы могли бы… со всеми вместе.
— Да я не умею заводской работы делать.
— Ну… хорошо, хорошо, пусть будет так.
Бауэр вышел из-за стола, глядя мимо Беранека, — вероятно, в окно. Сейчас ему хотелось только поскорее закончить этот разговор. Но Беранек словно чего-то ждал.
— Хорошо, — бросил тогда коротко Бауэр. — Хорошо, — повторил он сдавленным голосом. — Хорошо… — Тон был отсутствующий, будто Бауэр упорно, но с затаенной нервозностью думал о чем-то другом.
Беранек постоял еще немного и вышел. Ноги у него заплетались, и в голове шумело. Почему-то он был недоволен собой. На воздухе ему, однако, стало полегче, и даже мелькнула радостная мысль, что дело наконец сделано.
В таком настроении возился Беранек у саней, ничего уже не ожидая и не желая, — как вдруг вышел к нему Бауэр, с запозданием протянул ему руку и крепко стиснул.
— Все-таки я должен вас поздравить, Беранек. Будете нашим квартирмейстером, — с волнением в голосе сказал Бауэр, снова покраснев. — Желаю вам, чтоб мы там скорее все встретились.
Бауэр собственноручно помог ему положить почту в сани. Потом еще раз, под каким-то ничтожным предлогом, вернулся к саням — в сущности, для того только, чтобы сказать как бы между прочим:
— Завидую вам, Беранек. Я, видите ли, не могу так легко выбраться отсюда. На кой черт стал я этим доверенным лицом!
Он улыбнулся, и Беранек с готовностью ответил:
— Я знаю.
Сани Беранека летели сегодня легко, как пушинка, будто бы сами были опьянены крылатой гордостью и надеждами Беранека. Нескромными надеждами! Ведь вот что получается:
Пан лейтенант Томан, пан учитель Бауэр и… вдруг… еще и Иозеф Беранек!
Более того:
Пан Бурда, пан управляющий, пан с широкополой шляпой и черной прядью волос, пан лейтенант Томан, пан учитель Бауэр, а еще… и Иозеф Беранек!
Светло и чисто было у него на душе — светлее, чем в чистом поле вокруг него. Он подстегнул лошадку. Сухой снег взметнулся из-под копыт.
Эх, все почти, как в былые времена! Когда на тезоименитство государя императора возил он управляющего — на торжественное богослужение. Хозяин — в красивом, пахнущем нафталином мундире, на голове треуголка с золотым позументом. Из-под сверкающих копыт резвых коней врассыпную бросается домашняя птица — а Беранек, согретый восхищением прочей челяди, восседает на козлах, блистая начищенными пуговицами праздничной ливреи. В такой день с особенной, достойной серьезностью сторожил он перед собором черный, чисто вымытый парадный экипаж и сверкающих чистотой коней, с высоты козел отгоняя кнутом восхищенных детей и назойливых собак.
А Бауэр долго стоял у окна. Ему видна была только небольшая часть дороги, по которой уехал Беранек. Далеко, насколько хватал глаз, покрытая снегом земля сливалась с небом. Строгое выражение лежало на лице Бауэра. Он испытывал недовольство, которое вроде бы происходило от чувства пристыженности, — и все же под ним таилось глубокое удовлетворение. Осознав, что с ним творится, он сел к столу, чтобы еще сегодня написать о первом в их организации добровольце. Но, к его удивлению, черновик, — а черновики он привык составлять всегда, — вышел и короче и проще, чем он ожидал.
Тогда к официально-сухому и деловому заявлению он принялся писать свое сопроводительное письмо, и лишь в конце его, после короткого раздумья, добавил, морщась от мучительного нетерпения:
«Если можете избавить меня от этой горькой чаши — быть доверенным лицом, — пожалуйста, призовите меня тоже».
Потом он перечитал оба черновика и, заглядевшись в окно, отложил их вместе с приготовленной для чистовиков бумагой. Встал, но сейчас же сел опять, собираясь хотя бы написать ответ организации пленных офицеров, председателем которой был лейтенант Томан.
Но и это намерение он оставил.
В глубокой задумчивости смотрел он на лист бумаги, где первой стояла подпись Томана. Потом перевел взгляд на светло-серое небо над заснеженной крышей винокурни.
Ах, да что же это с ним? Неужели боится? Самого себя?
Нет!
Но он с изумлением думает о том, что все, прорастающее нынче здесь, во множестве других мест засыпанной снегами необъятной России, а может быть, и рассеянных по всему миру, — это всходы и из его семян; семян, которые выросли в нем самом и которые он как учитель потом честно и с глубокой верой старался посеять в других.
Иначе — откуда же это смутное, невзрачное брожение самых простых и робких мыслей, едва орошенных маленькой, такой незначительной волей? Откуда берется все это, проникающее от гнезда к гнезду капиллярами таких же вот и еще более простеньких писем, соединяющих бесчисленные капельки в целую реку? Чем же налиты они, эти дрожащие капли, что сливаются от одного соприкосновения и соединенной тяжестью своей приводят в движение самих себя, текут, увлекая за собой другие? Что же она такое, эта текучая роса крошечных воль, если одолевает даже первородный страх, порабощающий одинокие сердца? Одолевает даже тот страх, того бдительного сторожа хрупкой жизни, который овладел расплавленными человеческими сердцами, — одолевает его и поднимает сердца на борьбу… против войны!
Трепет прошел по спине Бауэра — но грудь его расширилась. Ведь это растет, рвется вперед и его, его воля, движется вместе с этим тяжелым, медленным, тупо растущим потоком. Потоком, который никто не остановит, ибо он — сама справедливость!


























