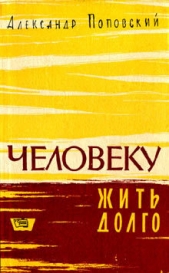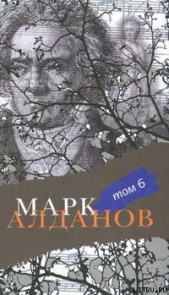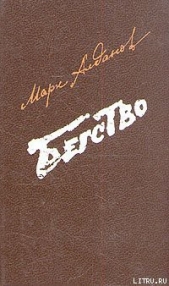Повесть о смерти
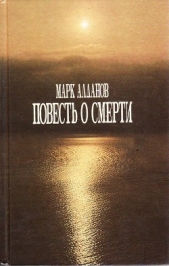
Повесть о смерти читать книгу онлайн
Марк Алданов — блестящий русский писатель-историк XX века, он явился автором произведений, непревзойденных по достоверности (писатель много времени провел в архивах) и глубине осмысления жизни великих людей прошлого и настоящего.
«Повесть о смерти» — о последних мгновениях жизни Оноре де Бальзака. Писателя неизменно занимают вопросы нравственности, вечных ценностей и исторической целесообразности происходящего в мире.
«Повесть о смерти» печаталась в нью-йоркском «Новом журнале» в шести номерах в 1952—1953 гг., в каждом по одной части примерно равного объема. Два экземпляра машинописи последней редакции хранятся в Библиотеке-архиве Российского фонда культуры и в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк). Когда Алданов не вмещался в отведенный ему редакцией журнала объем — около 64 страниц для каждого отрывка — он опускал отдельные главы. 6 августа 1952 года по поводу сокращений в третьей части он писал Р.Б. Гулю: «В третьем отрывке я выпускаю главы, в которых Виер посещает киевские кружки и в Верховне ведет разговор
с Бальзаком. Для журнала выпуск их можно считать выигрышным: действие идет быстрее. Выпущенные главы я заменяю рядами точек»[1].
Он писал и о сокращениях в последующих частях: опустил главу о Бланки, поскольку ранее она была опубликована в газете «Новое русское слово», предполагал опустить и главу об Араго, также поместить ее в газете, но в последний момент передумал, и она вошла в журнальный текст.
Писатель был твердо уверен, что повесть вскоре выйдет отдельной книгой и Издательстве имени Чехова, намеревался дня этого издания дописать намеченные главы. Но жизнь распорядилась иначе. Руководство издательства, вместо того, чтобы печатать недавно опубликованную в журнале повесть, решило переиздать один из старых романов Алданова, «Ключ», к тому времени ставший библиографической редкостью. Алданов не возражал. «Повесть о смерти» так и не вышла отдельным изданием при его жизни, текст остался недописанным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В одиннадцатом часу вечера они легли спать больные и измученные. То, о чем он мечтал столько лет, осуществилось. И он возненавидел Ганскую.
VII
Blest be the art that can immortalize [144].
Особняк на улице Фортюне был, наконец, отделан. За три дня до свадьбы Бальзак послал из Бердичева своей матери последние инструкции: надо к их приезду разукрасить дом цветами, перечислял комнаты и жардиньерки, требовал, чтобы цветы были «очень, очень хороши». Очень, очень хорош был и весь особняк, стоивший огромных денег. Теперь всё было готово.
Теофиль Готье говорит: «Есть турецкая поговорка: „Когда дом достроен, приходит смерть“».
Из Верховни новобрачные выехали во второй половине апреля. Дороги были плохие, — грязь, лужи, ухабы. Со свойственной больным людям склонностью к преувеличениям, Бальзак из Дрездена написал сестре: «Не один раз, а сто раз в день была в опасности наша жизнь!» Из Дрездена же он послал матери указания относительно этикета встречи: в момент их приезда мать не должна находиться в особняке; они к ней приедут с визитом на третий день; не должна встречать их и сестра; на столе должен быть обед; встретит их прислуга, и т. д. Трудно понять, как умирающий человек — и столь замечательный — мог думать о подобном вздоре. Этот ревностный обличитель «буржуазии» был в жизни самый подлинный буржуа.
В Дрездене он еще купил что-то очень дорогое, — если впрочем не хвастал в письмах к посторонним людям. Редактору газеты «Constitutionnel» сообщил, что купил или покупает за 25–30 тысяч франков старинный туалетный прибор, «в тысячу раз красивее прибора герцогини Беррийской», а жена его будто бы приобрела жемчужное ожерелье, «такое, что сошла бы с ума святая». Эта черта выскочки, неприятная ему в других, тоже у него оставалась до конца жизни: всё, что принадлежало ему, было изумительно и бесподобно.
Они приехали в Париж поздно вечером 27 мая. Мать и сестра с точностью исполнили все его предписания. Но вышла большая неприятность. Дом на улице Фортюне был ярко освещен. Никто не отворил на повторные звонки, на стук, — трудно было понять, в чем дело. Этикет был грубо нарушен. Пришлось послать за слесарем и взломать замок. Оказалось, что лакей Бальзака внезапно сошел с ума, многое побил в доме, затем забаррикадировался. «Зловещее предзнаменование», — говорит биограф. По-видимому, с женой Бальзака случилось что-то вроде истерического припадка. Они разошлись по своим комнатам.
Письма Ганской к Бальзаку были им уничтожены. Его письма к ней она несколько исправила и дополнила, — по словам немногочисленных исследователей, которых допускают в архив, завещанный Французской Академии виконтом Левенжулем. Этот бельгийский поклонник Бальзака посвятил ему большую часть жизни, потратил много денег на составление Бальзаковского архива. Он знал о своем герое всё. По-видимому, знал кое-что и об его жизни после брака, но ничего не хотел сказать ясно и ограничился кратким указанием: брак оказался неудачным. Французский академик, имевший доступ к архиву, тоже неясно ссылается на слово, будто бы сказанное Бальзаком о жене: «Она убивает меня понемногу» (Elle m'assassine en detail).
Вначале всё шло как будто сносно, — по крайней мере с внешней стороны. Бальзак еще изредка выходил, иногда принимал друзей. Говорить ему было тяжело, слушать молча здоровых людей еще тяжелее. Порою он впрочем оживлялся и старался говорить увлекательно. Но и блеск его речи теперь мало походил на прежний. Слушать его было тяжело. Обычно разговор поддерживала госпожа Бальзак. Он уверял, что какой-то волшебник предсказал ему: в пятьдесят лет его постигнет очень тяжелая болезнь, всё же он выздоровеет и проживет до восьмидесяти. Друзья, вероятно, вели разговор в веселом тоне, но ни у кого из них не было сомнений: дни Бальзака сочтены.
Разумеется, его родные скоро поссорились с женой. Они не могли не замечать, что он их стыдится; они были бедны, к аристократии не принадлежали и, в отличие от него, на это не претендовали. На самом деле ему стыдиться никак не приходилось. В своих письмах к Ганской он когда-то дал ужасный отзыв о своей матери; между тем она, по-видимому, была хорошая, достойная, хотя ничем не замечательная, женщина. Большой симпатии к жене сына у нее не было и не могло быть. Сестра же Бальзака, в своих воспоминаниях о брате, об его вдове не говорит, но вскользь, сдержанно и как бы подчеркнуто-уклончиво замечает: «Быть может, настанет время, когда я закончу рассказ о последних днях моего брата»; и неясно обещает, что его письма подтвердят перемену, произведенную в нем «столь дорого купленным опытом».
О том, что происходило между мужем и женой, в точности ничего не известно. Ревновал ли он ее к кому- либо? Еще в письмах Бальзака из деревни есть как будто намеки, — он опасался появления соперника. Скорее это была у него тогда чистая теория: как же у нее, при двадцати тысячах десятин земли, не было бы других поклонников? «Ее руки домогались беспрестанно самые знаменитые и высокопоставленные люди», — сочинял он в одном из писем к сестре. Но тогда она была свободна и богата. Теперь она была его жена, и большая часть ее богатства отошла к дочери. А главное, как бы он теперь к ней ни относился, едва ли мог думать, что она при умирающем муже заведет себе любовника.
Им стало очень скучно друг с другом. Странным образом оказалось, что светская жизнь была в Верховне, — там в доме почти всегда бывали люди. В Париже у них под конец почти никогда никого не было. О французской королеве Марии Лещинской, с которой Ганская будто бы была в родстве, министр д'Аржансон сказал: «Людовик XV прижил с ней десять детей, но за всю жизнь не обменялся с ней ни единым словом». Бальзак никак не походил на Людовика XV; однако еще более странным образом оказалось, что разговаривать ему с женой больше незачем.
Через полвека после того Октав Мирбо поместил в одной из своих книг длиннейшие «разоблачения», вызвавшие много шума во Франции. Это был рассказ довольно известного в свое время художника Жигу. Он сообщил Мирбо, что еще при жизни Бальзака был любовником его жены и провел с ней в доме на улице Фортюнэ ту ночь, когда Бальзак умер. Подробностей рассказал множество, одна была отвратительнее другой. Сиделка стучала в дверь и кричала: «Мадам, мадам, идите: мосье умирает». Госпожа Бальзак хотела было одеться и побежать к мужу, он, Жигу, ее удержал; минут через десять сиделка снова прибежала с криком: «Мосье скончался!»
Вдовы Бальзака уже тогда не было в живых, но графиня Мнишек еще жила и с негодованием протестовала против клеветы. Кое-кто говорил, что Мирбо просто всё выдумал; ничего такого Жигу ему не рассказывал. Позднее выяснилось, что этот рассказ слышали от художника и другие. В настоящее время часть французских «бальзакистов» верит этому рассказу, другая часть не верит. Вдова Бальзака года через два после его кончины стала «гражданской женой» Жигу, — как Аспазия после смерти Перикла вышла замуж за скотовода. Вечной верностью умершему мужу Ганская никак не была обязана. Но когда она писала, что в 1850 году «забыла людей и мир в своем невыносимом горе», это было, конечно, чрезвычайно сильное преувеличение.
Рассказ Жигу так циничен и грязен, что поверить ему трудно; разумеется, и не заслуживает доверия человек, который так говорил об умершей женщине, бывшей много лет его собственной женой. Едва ли госпожа Бальзак изменяла мужу в его последние дни, и, не будучи извергом, она не могла изменять ему в минуты его агонии. К тому же, она всегда боялась скандалов, а в обстановке, описанной Жигу, скандал на весь мир был бы неизбежен. О нем через месяц узнали бы и в Польше.
Но что бы ни было причиной раздора, — главная роль всей жизни Бальзака, любимая роль огромного репертуара, роль страстно влюбленного в Ганскую человека, кончилась худо и бесславно.
Ему теперь было больше и не до ролей. Он крепился из последних сил. Отправил Теофилю Готье письмо почти веселое, называл себя «мумией, лишенной слова и движения». Писать уже не мог, продиктовал жене, но собственноручно приписал несколько слов: «Не могу ни читать, ни писать».