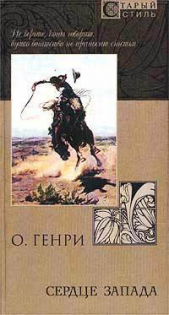Амелия
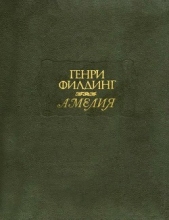
Амелия читать книгу онлайн
«Амелия» – четвертый роман Генри Филдинга, четвертый и последний.
Группа задержанных ночной стражей правонарушителей предстает перед судьей Трэшером, творящим скорый и неправый суд; затем один из задержанных – капитан Бут – оказывается в тюрьме. В тюрьме он неожиданно встречается с красивой дамой, тоже арестанткой, которую он знал несколько лет назад и которую, к его изумлению, обвиняют в убийстве…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Да, да, я помню эти строки! – воскликнул сочинитель, -
– Вы угадали, сударь, я имел в виду именно эти строки, – подхватил Бут, – но, хотя я и согласен с тем, что доктор снисходил иногда до подражания Рабле, я что-то не припомню в его сочинениях ни единого места, свидетельствующего о попытке следовать за Сервантесом. Был, однако, один автор, писавший в точно такой же манере, как и Свифт, и вот как раз его, я убежден, он изучал более всех других… вы, надо полагать, догадываетесь, что я имею в виду Лукиана. [221] Вот за кем Свифт, по моему убеждению, следовал, но только следовал на почтительном расстоянии, как, по правде сказать, и все прочие писатели, творившие в том же роде, потому что никому еще пока, я считаю, не удалось стать с Лукианом вровень. Поэтому я, конечно, полностью согласен с мистером Мойлом, [222] когда он в своем «Рассуждении о веке Филопатриса» называет его «несравненным Лукианом»; и он, я думаю, останется несравненным до тех пор, пока будет существовать язык, на котором он писал. Какой неподражаемый образчик юмора его «Петух»! [223]
– Ну, как же, я прекрасно это помню, – воскликнул сочинитель, – его история про петуха и быка действительно очень хороша.
При этих словах Бут с изумлением воззрился на сочинителя и осведомился, о каком быке он ведет речь.
– Сказать по чести, я это не очень хорошо помню. Ведь сколько времени прошло с тех пор, как я это читал. Но когда-то я изучил Лукиана вдоль и поперек, правда, это было еще в школе, а с тех пор редко когда его перечитывал. К слову сказать, сударь, – продолжал он, – а какого вы мнения о его «Фарсалии?» Ведь перевод мистера Роу [224] в самом деле хорош, не правда ли?
– Мы, похоже, говорим с вами о разных писателях, – ответил на это Бут. – «Фарсалия», которую перевел мистер Роу, написана Луканом, а я говорил о Лукиане, греческом писателе, который, по моему мнению, величайший юморист из всех когда-либо писавших в этом роде.
– Еще бы, – воскликнул сочинитель, – какое в этом может быть сомнение! Вы совершенно правы – отличный писатель! Переводы его сочинений были бы, мне кажется, нарасхват!
– Не берусь это утверждать, – ответил Бут, – скажу лишь, что Лукиану в хорошем переводе цены бы не было. Мне как-то попался один перевод, изданный мистером Драйденом, но выполненный другими, [225] и притом, надо заметить, из рук вон плохо: они во многих местах исказили смысл Лукиана и ни в одном не сохранили дух оригинала.
– Очень жаль, – заметил сочинитель. – А скажите, сударь, существует ли хороший французский перевод?
Бут ответил, что он этого не знает, но очень на сей счет сомневается, потому что ему еще ни разу не доводилось видеть хороший перевод с греческого на этот язык.
– По правде сказать, – продолжал он, – мне сдается, что французские переводчики пользуются обычно не оригиналом, а только лишь латинским переводом, [226] а эти последние, насколько я могу судить по тем немногим греческим авторам, которых я читал на латыни, выполнены отвратительно. Поскольку английские переводчики пользуются большей частью именно французскими переводами, то нетрудно себе представить, насколько эти копии с плохих копий способны сохранить дух оригинала.
– Черт возьми, я вижу, вас не проведешь! – воскликнул сочинитель. – Как хорошо, что книгопродавцы не отличаются вашей догадливостью. Однако разве положение может быть иным, если принять во внимание, сколько они нам платят за страницу? Ведь греческий язык, согласитесь, сударь, куда как труден, и очень мало кто из пишущей братии способен читать на нем без хорошего словаря. К тому же, сударь, если бы мы стали тратить время на то, чтобы доискиваться истинного смысла каждого слова, то джентльмену не удалось бы заработать таким образом даже на хлеб и сыр. Разумеется, если бы нам платили, как мистеру Поупу за его Гомера, [227] вот тогда было бы совсем другое дело… Не правда ли, сударь, вот уж действительно самый лучший на свете перевод?
– Если говорить начистоту, – возразил Бут, – то я считаю, что хотя это, без сомнения, возвышенный пересказ и в своем роде прекрасная поэма, однако уж никак не перевод. К примеру, в самом начале Поуп не передал подлинной силы автора. В первых пяти строках Гомер обращается к музе, а в конце пятой строки приводит объяснение:
Ведь если эти события, – продолжал Бут, – произошли по воле Юпитера, тогда их истинные причины, как он предполагает, известны одним только богам. Переводчик же не обратил на это никакого внимания, как будто этого слова там вообще нет.
– Весьма возможно, что вы правы, – ответил сочинитель, – но я очень уж давно не читывал оригинала. Вероятно, Поуп в данном случае следовал за французским переводом. Я еще, помню, обратил внимание на то, что в примечаниях он то и дело ссылается на мадам Дасье и мосье Евстафия, [229]
К этому времени Бут получил уже достаточно ясное представление о познаниях своего собеседника в древнегреческой словесности; не пытаясь поэтому наставлять его на путь истинный, Бут заговорил о латинских авторах:
– Поскольку вы, сударь, упомянули в разговоре перевод «Фарсалии», сделанный мистером Роу, – сказал он, – я хотел спросить, помните ли вы, как он передал вот это место в характеристике Катона?
Боюсь, что смысл этих строк понимают обычно неправильно.
– Признаюсь, сударь, я этого места не помню, – замялся сочинитель. – А как вы сами считаете, какой здесь заключен смысл?
– Сдается мне, сударь, – заметил Бут, – что в этих словах: Urbi Pater est, urbique Maritus – Катон представлен как отец и муж города Рима.
– Совершенно справедливо, сударь, – согласился сочинитель, – и это поистине прекрасно. Не только отец своей родины, но еще и ее муж; в самом деле, до чего возвышенно!
– Простите, сударь, – перебил Бут, – но я-то как раз считаю, что у Лукана здесь совсем другой смысл. Если вы соблаговолите вдуматься в контекст, то увидите, что, похвалив Катона за умеренность в еде и одежде, автор переходит к любовным утехам, которые, как говорит поэт, Катон позволял себе главным образом для продолжения рода, и тут он добавляет: Urbi Pater est, urbique Maritus; то есть, что Катон становился отцом и мужем только для блага родного города. [231]
– Готов поклясться, что вы тут совершенно правы, – воскликнул сочинитель, – я как-то, признаться, над этим не задумывался. Так получается намного лучше, чем в переводе. Urbis Pater est… и как там еще дальше?… ах, да… Urbis Maritus. Тут вы, сударь, без сомнения, правы.
Теперь Бут, надо полагать, уже вполне удостоверился в том, сколь глубокими познаниями обладал сочинитель, но ему, однако, же хотелось еще немного его испытать. Бут спросил поэтому собеседника, какого он мнения о Лукане в целом и к писателям какого ранга его причисляет.