Камень и боль
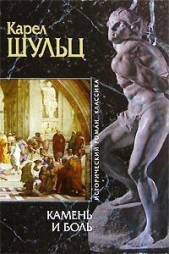
Камень и боль читать книгу онлайн
Роман «Камень и боль» написан чешским писателем Карелом Шульцем (1899—1943) и посвящен жизни великого итальянского художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти, раннему периоду его творчества, творческому становлению художника.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И в его мечтах лицо на занавеси вдруг изменилось. Глаза старика, затуманенные продолжительным рассматриванием, вдруг увидали, что черты эти становятся знакомей. Он узнавал это лицо. Вытянутое тело ее задрожало, как тогда. Глаза, в которые он глядел так часто, послали ему тот знакомый, любимый, жаждущий взгляд. И в Болонье тоже жила Ариадна, оставленная Тезеем, который должен был ехать дальше, исполняя свое предназначенье. И старик дряхлыми губами невольно прошептал стихи, распевавшиеся в дни его молодости студентами Болоньи:
Pinge, precor, pictor, tali candore puellam,
qualem pinxit amor, qualem meus ignis anhelat.
Прошу тебя, художник, изобрази ее такой, какою изобразила моя любовь… Резким движеньем ладони он стер призрачное виденье с глаз. Допил бокал сладкого вина и встал. Медленно, чинно перешел через всю комнату к окну и стал смотреть на улицу. Она была пуста. Микеланджело все не идет. Значит, его нет и на месте работы, в церкви Сан-Доменико, потому что – вот его инструменты, лежат на столе возле его пустой тарелки. Где только шатается этот юноша, этот неблагодарный художник?.. Терпеть не могу неблагодарности, – ведь это особый вид пренебреженья, а никто не смеет пренебрегать мной, Альдовранди, первым среди патрициев, членом Консилио деи Седичи, к голосу которого прислушиваются даже синьоры Бентивольо! А в лице юноши часто можно видеть пренебреженье: всем – и мной и Болоньей! Что он, собственно, пока создал? Только доканчивает надгробие, бессмертное творение моего дорогого Никколо, чьи руки я держал в своих, когда он умирал… А самостоятельного он ничего здесь не создал. Не переоценивал ли Маньифико своего художника? Не обманули ли меня мои агенты? Мне уж несколько раз приходилось вносить поправки в их сообщения. Действительно ли Микеланджело такой выдающийся художник? И нужно ли моей Болонье учиться пониманию искусства у этого флорентийца? А остальные художники уже ропщут, я не смогу больше держать его при себе, и справедливо ропщут, – они платят подати, а он нет, они не получают заказов, а он получает, ропщут справедливо.
Художники умирают, а я живу. Правители теряют власть, женщины красоту, только я продолжаю жить здесь и ревниво охраняю то искусство, что живет здесь со мной. Женщина на занавеси, эта живая женщина – после нашествия французов уже мертва либо опозорена, уничтожена. Та, прежняя, болонская, со своим жаждущим взглядом, – мертва, она умерла семнадцати лет, стянув себе горло своими длинными волосами, когда… не вернулся тот, который должен был, исполняя свое предназначение, поехать поучиться и в других местах искусству управления городом. Правители теряют власть… Известия, полученные нынче Советом, ужасны. Французы уже под самым Римом, и государство неаполитанских арагонцев рухнет, Неаполю не удержаться без Рима. Нынче ночью зажгу все огни в зале с моими коллекциями и буду ходить среди них, порадую душу зрелищем их красоты, которая не может погибнуть. По гладким телам статуй, по мягким тонам картин будут бродить огни и мои ласкающие взгляды, по нежной седине перламутра, по эмали и золоту, по формам, созданным порывистым восторгом и благородным усилием художника, по формам, выплавленным жаром его души и огнем его страстных порывов, и в этом бдении я забуду обо всем, о своей старости, о смерти женщин, о гибели семейств и городов, об обмане неблагодарного Микеланджело… Может быть, его теперь не было бы на свете, если б я его не спас. А как он мне отплатил? Художники умирают, а я живу. А в Болонье ваятели умирают скоро. Он много узнал бы, если б был внимательней ко мне… Когда он вернется, я равнодушно выслушаю его извинения, пройду снисходительно мимо его неблагодарности… А вон там, на камине, уже лежат тридцать золотых дукатов ему за работу и готовая подорожная… До сих пор ни один из дорогих моих художников, которых я кормил, одевал, которым покровительствовал, устраивая заказы и новые работы, не держался по отношению ко мне так, как этот флорентиец. А какие среди них имена!
Старик медленно отошел от окна и опять сел в свое высокое тяжелое кресло перед занавесью. В этот послеобеденный час он привык беседовать, развивая на сытый желудок свои взгляды насчет приятной, гармонической и благородной жизни. Он гордился своими способностями хорошего рассказчика, умеющего сочетать поучения философов с выводами житейской мудрости и данными жизненного опыта и выбирать выражения, отрадные для слуха. И слушал его не только Микеланджело, – сам старик с удовольствием слушал себя, любуясь изяществом своей речи, тонкостью и возвышенностью своих мыслей. А теперь вот сиди, раздосадованный, один, подперев голову рукой, и злись на неблагодарность флорентийца, искусство которого ты переоценил… Один.
Вдруг старика охватил непонятный страх, не является ли этот час лишь предвестьем многих таких часов в будущем. Ему показалось вдруг, что дом его опустел, радости увяли, как женщины и власть князей, показалось вдруг в праздности медлительно влекущихся часов, что больше никто никогда не придет порадовать его и развлечь, что ни один художник больше не обратит внимания на старика, который всегда кичился тем, что в эти смутные времена, средь военных бурь, верно охраняет их наследство. Он слишком стар. Может, сделался даже смешон своими взглядами и стремленьем поставить Болонью в отношении искусства выше всех других городов, может, никто не будет о нем знать, забудут о нем, драгоценные собрания его будут раскуплены чужими агентами, так же как он все это покупал, а пройдет время – никто и не вспомнит о патриции Альдовранди, члене Консилио деи Седичи… Микеланджелова непочтительность, быть может, только первое предупреждение. Имя Альдовранди так и не станет золотой монетой для художников. Найдутся другие меценаты, другие покровители, – они с усмешкой будут проходить мимо его дворца, а он будет сидеть там, состарившийся, с душой, удрученной заботами, сжимая дряхлыми сухими руками подлокотники кресла, зябко кутаясь в свой пурпур, один…
Неужели он уже старый? Он устало уронил руки на колени, в складки одежды. Солнечный свет широким потоком падал на него, на богато убранные стены, на занавесь, на золото и серебро сосудов, на бокал с сладким вином, который он снова наполнил. Как это там в той старой студенческой песне, которую пели в Болонском университете? Он вспомнил последний стих:
Si bonus es pictor, miseri suspiria pinge…
Да, так она кончалась. Если ты хороший художник, изобрази и вздохи несчастного!.. Альдовранди задрожал, словно ему даже на жарком солнце было холодно, и закутался поплотней. Ах, как бы разрушить это одиночество, такое непривычное! Так вот она, благодарность Микеланджело, вот творение, которого он от него ждал, вот единственный его подарок: одиночество.
Что ж, хорошо, запомню.
И отблагодарю соответствующим образом. Подведу черту под своими отношениями с Микеланджело. Оставленные инструменты, оставленная книга, оставленный стол. Если б хоть только одиночество!.. Сердце старика сжалось от тоски. Он – один перед занавесью, сверкающей под яркими лучами солнца. Он не дал увезти эту вещь во Флоренцию, а теперь ему хотелось закрыть лицо руками, но он не мог, он должен пялить глаза на занавесь, горько жалея, зачем помешал ее уничтожить, увезти, дать ей затеряться где-нибудь в королевских коллекциях… А Орацио Нелли умер третьего дня от ран, не желая выдать занавесь… Ради чего равеннскому Тезею пришлось разлучиться со своей Ариадной, вечно зовущей его назад невыразимо сладостным и тоскливым взглядом?.. А та, другая, болонская, сдавившая себе горло узлом своих длинных волос… Как это возможно, чтоб лица были так до ужаса похожи?
Солнечные лучи ударили в занавесь, вызвав игру линий и красок. Старик вскрикнул. Старик и девушка глядели друг на друга.
БЕЗДОМНЫЙ БРОДЯГА
А в это время Микеланджело, так напрасно ожидаемый, шел от южных ворот обратно в город – в сопровождении двух человек. Молодой римлянин, осматривавший вместе с верховным командующим скьопетти Асдрубале Тоцци укрепления, заметив бродящего вдоль стен Микеланджело, указал на него командующему гарнизоном, и оба очень смеялись. Потом Тоцци подошел к нему и строго потребовал следовать за ними. По дороге римлянин спросил, известно ли Микеланджело, что Пьер Медичи – в городе, на что Микеланджело ответил, что уже говорил с Пьером Медичи в храме Сан-Доменико. Оливеротто да Фермо опять засмеялся:


























