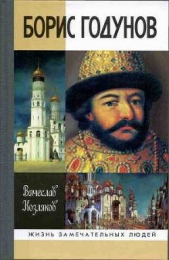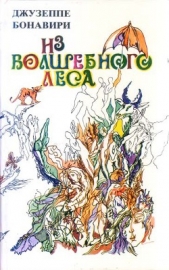Борис Годунов

Борис Годунов читать книгу онлайн
Высокохудожественное произведение эпохального характера рассказывает о времени правления Бориса Годунова (1598–1605), глубоко раскрывает перед читателями психологические образы представленных героев. Подробно описаны быт, нравы русского народа начала XVII века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А четвертый, молча обведя всех за столом взглядом, сказал:
— Хватит, мужики, разговор опасный. Не дай бог влетит в чужие уши.
Оглянулся. Мужики смолкли.
Наутро доказного языка повели по иной дороге. По Тверской протащили, по Никитской, на Арбат выперли, проволокли по Знаменке, дотащили до Чертольской. И опять, не боясь бога, гнали пинками мимо святых церквей: Николы Явленного, Знамения Богородицы, Иоанна Предтечи, Вознесения, Успения, Воскресения и Николы в Гнездниках. Мимо домов крестового Дьяка Михаилы Устинова, Ивана Ивановича Головина, по прозвищу Мягкий, бояр Хованского, Шуйского…
У дома Ивана Ивановича Шуйского доказной остановился. Дьяк и стрельцы замерли. Мужик в мешке что-то промычал, рука его вроде бы зашевелилась, но он качнулся и замертво грянул оземь.
Так дело с тремя ведунами и не довели до конца. С Лобного места в тот же день дьяк объявил, что доказной язык помер, но ведунов ищут и впредь искать будут. Так что роздых для Москвы вроде бы и вышел, однако, чувствовалось, ненадолго.
Опасно, ох, опасно на Руси царя пугать. И страшно, ох, страшно от него напугаться.
Служили благодарственный молебен об избавлении царя Бориса от тяжкого недуга. Сладкий запах ладана заполнял храм, блестел иконостас, вспыхивали в свете свечей золотые оклады икон, и мощный голос архидьякона, казалось, сотрясал стены.
Чудовская братия, валясь на колени, клала поклоны, истово крестилась.
— …избавление-е-е… богу всеблаго-о-о-му… — так низко рокотал голос архидьякона, что в груди у каждого трепетало. Могучий голос подхватывался хором. Лбы покрывались испариной, пальцы, накладывая крест, дрожали. Лица были истовы, глаза, устремленные к Христу, ликовали, благодарили.
Среди молящихся выделялся стоявший на коленях в тени колонн, у стены, Григорий Отрепьев. Плотно сомкнутые губы, полуприкрытые глаза, морщины у висков говорили скорее о глубоком раздумье монаха, нежели о молитвенном экстазе, испытываемом всеми в храме. Он кланялся, когда склонялась в поклоне братия, рука его поднималась и опускалась, привычным движением накладывая крест, но и выражение лица, и медлительность в поклоне, и даже то, как слабо, без должной истовости были сложены в троеперстие его пальцы, — все говорило: монах далек от творимой в храме молитвы, мысли его заняты иным.
Ныне изменения, давно примечаемые чудовской братией в Отрепьеве, были еще разительнее. И выделялся теперь он среди них не только богатым платьем, постоянно подносимым ему неведомыми доброхотами, но прежде всего своим поведением. И ежели и раньше замечали, что ходить он стал увереннее, говорить тверже, то ныне уже властность угадывалась в его походке, в голосе и жестах. Но, что удивляло всех, было все же другое.
Впервые придя в монастырь и стоя в ожидании у келии иеродиакона Глеба, монашек сей, кутаясь в рваную рясу, оглянулся вокруг, и неожиданно на утомленном лице его объявились необычайно живые глаза, светившиеся разумом, волей, и необыкновенной, странной в стенах монастырских, удалью. Но Отрепьев тут же опустил веки и погасил глаза. Так вот ныне глаза Отрепьева неизменно и на всех смотрели с победительной силой и властностью. И взор этот не мог не смутить каждого, кто только видел монаха. Так в монастырях не смотрят, так, богу служа, людей не оглядывают.
С некоторых пор Отрепьеву в трапезной стали подавать отдельный от братии стол, и блюда подавали вовсе иные, отдельно же приготовляемые. Братия зашепталась. Но было сказано: «Монаху сему подают пищу, ежедень приносимую для него доброхотами». «Хорошо, пускай», — ответили на то монахи. Но вот однажды вся трапезная была поражена вдруг случившимся.
Иеродиакон Глеб, весьма уважаемый в монастыре за долгие годы свои, за ученость великую и за скромность бытия, по известной рассеянности, видать, остановился как-то у стола Отрепьева, и тот, увидя его, пригласил к столу. Но как! Рука Григория поднялась от стола и проплыла, приглашая старца сесть на лавку, так, как плывет, указуя, только рука царская. Старец растерянно присел, и видно было по затрясшейся голове, что он чрезмерно напуган. Все, кто только был в трапезной, опешив, открыли рты не в силах и передохнуть. В головах родилась мысль: «А чего бояться иеродиакону? Отчего лицом он посерел? Почему седая голова трясется?»
Ответа, однако, не нашел ни один из братии. Отрепьев неотлучно был ныне подле патриарха. Читал по его приказу святые книги, когда тот желал послушать то или иное, но по слабости зрения и недосугу сам уже прочесть не мог, переписывал жития святых по патриаршему же повелению, бывал с патриархом в Грановитой палате, в Думе и многократно мог лицезреть царя.
О чем думал Отрепьев сейчас, во время благодарственного богослужения, было неведомо. Но до самого конца службы лицо его так и не озарилось святым огнем.
По окончании молебна на паперти храма один из монахов, задержавшись подле стоящего молча Григория, видать, со зла сказал дерзко:
— На лице твоем не видел я благолепия, когда братия господа славила за дарованное здоровье царю. — И повторил со значением: — Царю!
Григорий, долго-долго вглядываясь в монаха, неожиданно сказал, раздельно и четко выговаривая каждое слово:
— Царю… — Качнул головой. — Неведомо вам, сирым, кем я являюсь на Москве. — Перекрестился. — Вот и царем, быть может.
Монах, пораженный его словами, даже не ответил. Постоял, выражая всем своим видом полное недоумение, повернулся да и пошел прочь.
Через малое время слова Григория Отрепьева знал весь монастырь.
Промысел сильных людей бодрствовал над Григорием, и кто-то неведомый и в сей раз попытался отвести от него беду, братии сказали было, что в словах Отрепьева нет предосудительного. От гордыни-де это, не подумавши сказано или, напротив, в словах этих надежда на служение богу. И слово «царь» и так-де можно понимать, как сильный, могучий, старший отличнейший меж другими. И монах-де сей в этом смысле говорил, стремясь отличиться в служении церкви. Однако разговоры унять не удалось. Слова Отрепьева дошли до митрополита Ионы.
Рыхлый сей старец, подолгу не выходивший из келий, выслушав их, разволновался необычайно. Всплеснул пухлыми руками и не смог объяснить слова Григория как надежду на служение богу подвижническим делом. Мирское, злое услышал он в них и, несмотря на хворь, в тот же день толкнулся к патриарху.
Патриарха Иова митрополит застал за слушанием Библии, чему патриарх отводил ежедневно немалое время, стремясь проникнуть в смысл святых слов. Монах Григорий читал Иову благовествование от Матфея. Сжимавшая посох рука митрополита Ионы задрожала, когда он увидел Отрепьева. Лицо напряглось.
Патриарх, увидев вступившего в палату, не прерывая чтения, легким движением указал на лавку, и митрополит, почувствовав слабость в ногах, присел. Оперся на посох.
Отрепьев, стоя к митрополиту вполоборота, продолжал читать. Патриарх, не то заметив, не то почувствовав волнение Ионы, успокоительно покивал ему головой. Митрополит сложил руки на посохе и, унимая беспокойное чувство в груди, вслушался в произносимые монахом слова. Отрепьев читал глубоким голосом, ровно, не выделяя отдельных слов, но так, что чтение лилось единым сильным потоком. Без сомнения, монах сей умел читать священные книги, и, ежели бы у митрополита не было против него предубеждения, Григорий, наверное, увлек бы его своим голосом. Но Иона, так и не уняв волнения, не святое, но бесовское, лукавое услышал в голосе Отрепьева. Голос Григория был для него обманом, издевкой, надругательством над смыслом того, что произносил он.
— «Ибо, — читал Отрепьев, — кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится».
Жар ударил в голову митрополита, губы его пересохли, и уже не волнение, но гнев всколыхнулся у него в груди. Превозмогая нечистое, гневливое чувство. Иона до боли переплел сухие пальцы на посохе, и на время боль заглушила голос монаха.
Но вот вновь проник в сознание митрополита ровный и теперь ненавистный голос: