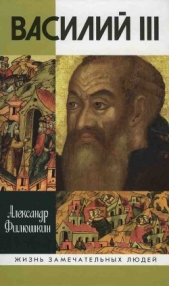Иван Грозный

Иван Грозный читать книгу онлайн
Романы, вошедшие в этот том серии, посвящены жизни и деятельности Ивана Грозного, его борьбе за укрепление Русского централизованного государства.
Содержание:
Шмелев Н.П. – Сильвестр;
Шильдкрет К.Г. – Розмысл царя Иоанна Грозного.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И в келью... И в келью к нему ходили часто. Почитай что каждый день... Сам ли Филипп, или старцы, или кто из молодых послушников по разрешению игумена либо келаря — за советом, за наставлением отеческим, за тихой беседой о делах Божественных, а иной раз и о земных... Филипп особенно любил его. Да и старцы его почитали, и молодёжь... За что? Надо думать, было за что... За то, наверное, что царя грозного, от младенчества своего свирепого, сумел обуздать больше чем на десяток лет. За труд его, Сильвестра, великий, подвижнический, вместе с товарищем и наставником его, с митрополитом Макарием [2], — упокой, Господи, его праведную душу в горних селениях Твоих! — за составленные ими Четьи-Минеи, без которых ныне ни священствовать на Руси, ни самому кому дорогу к Богу искать уже больше нельзя. Двенадцать книг! И в каждой из них — мудрость веков, мудрость святых отцов церкви, великих богословов, великих учёных, и каждое слово их свято и незыблемо, и каждое из них — от Бога, а не от суеты и тщеславия человеческого. И каждому их слову жить теперь и дальше в веках, пока мир стоит.
И ещё... И ещё, конечно, за «Домострой». За плод этот размышлений его мучительных, бесконечных бдений его ночных, завет его всем — и тем, кто живёт, и тем, кому ещё только предстоит жить... Как надо жить человеку, чтобы не мешать никому, как Богу молиться, как содержать ему себя и своих близких, чтобы дом его был крепок и чтобы успех и благополучие всегда сопутствовали ему. И чтобы любили его и ближние его, и соседи, и ровня его, и неровня и не сторонились его, а шли к нему за помощью и советом. И чтобы в смертный час его, когда настанет время прощаться со всем, что было дорого ему на земле, совесть его была чиста — и перед Богом, и перед людьми, и перед самим собой...
— А здесь почему своё не пишешь, отче Сильвестр? Почему только других переписываешь? — сердясь, выговаривал ему, бывало, Филипп. — Помнишь притчу евангельскую о таланте, зарытом в землю? Грех на душу берёшь, святой отец. Великий грех... Кому ж, как не тебе, писать сегодня о страданиях земли Русской? О грядущем её великом разорении, а может статься, и погибели? О Навуходоносоре новоявленном, царе немилостивом, побившем всех сильных во Израиле? Ты один сегодня остался, кто видел всё и знает всё, кто был и свидетелем, и участником. И кто стал первой жертвой сатанинских сил, неведомо откуда и за какие грехи обрушившихся вдруг на нашу землю: на смердов, на воинских людей, на Святую апостольскую церковь нашу, на славное делами и советом своим вельможество русское — на всех... Молчишь? Что же ты молчишь? Или страха ради иудейска зарок себе такой дал — молчать? За жизнь свою дрожишь, не веришь теперь никому... И мне небось не веришь... Не выдам, отче Сильвестр! Не выдам, клянусь тебе святым крестом. Не выдам я тебя никогда и никому — ни на дыбе, ни на исповеди, ни в беспамятстве на смертном одре, когда придёт и мой час... Напиши только! Для народа русского, для потомков наших, и ближних, и дальних, — напиши! Пусть знают православные, как один безумец, облечённый страшной, нечеловеческой властью, может стать проклятьем целой земли и погубить святое дело отцов и прадедов своих, по грехам, видно, нашим либо по проискам Сатаны попавшее в его кровавые руки... О Господи! Верую в благую волю Твою! Верую помоги моему неверию... Пусть знают наши потомки и берегутся его, этого безумца, ибо может статься, что не в последний раз пришёл он в мир. Силён враг человеческий, и долго ещё человеку бороться с ним – до самого, видать, Судного дня... Напиши, отче! Всё, что напишешь, схороню так, что ни один опричник, ни один доносчик царский не будут никогда знать, что я схоронил и где. Старцам-молчальникам, святым схимникам в пустынях лесных накажу беречь твой труд как зеницу ока. И если сами не доживут до светлого дня, когда избавит нас Господь от этого исчадия адова, пусть передадут твоё писание из рук в руки самым верным, самым надёжным ученикам своим. И так из поколения в поколение, пока не очнётся наконец Русская земля от этого наваждения, от этого тяжкого, страшного сна...
Горяч был игумен Филипп! Ох, как горяч... Вот ведь и в зрелых летах был человек, и жизнь, и людей повидал, и ума был светлого, высокого, и в науке книжной всего достиг и всё превзошёл — а говорил да и поступал иной раз, как сущее дитя. Будто и не знал он, святая душа, в жизни своей ничего, кроме ласки родительской и тепла дома отеческого, где, что бы там ни было, всегда поймут тебя, и пожурят, и пожалеют, и простят... «Спрячу, схороню, никто не узнает...». Эх, отче Филипп! Да не только я — сам ты был всегда и во всём под неусыпным оком государевым, сам денно и нощно был окружён соглядатаями царскими, следившими за каждым шагом твоим... Ближайший же твой ученик, ближайший помощник твой, отец Паисий, был, как оказалось, и первым же доносчиком на тебя царю. А сколько их других, доносчиков и злопыхателей, обнаружилось сразу же, в один день, в этой Богом хранимой обители, достигшей нынешнего своего величия и славы только лишь, считай, заботами и попечением твоим? Когда вдруг понадобилось царю оболгать тебя перед Освящённым Собором, обличить в неведомо каких «воровских скаредных делах», согнать с митрополичьего престола и заточить тебя, непокорного, в тюрьму... Диву даёшься, где, по каким норам и щелям таились они здесь от людского глаза, от гнева Божия, верша свои чёрные дела! И хлеб свой вкушали из твоих рук, и трудились, и молились с тобой рядом, и милость твою кроткую каждый день ощущали на себе — а вот поди ж ты... Предали! В одну ночь как нагрянули сюда — вспомнить страшно! — князь Тёмкин [3], а с ним пьяные царские опричники, до смерти напугав весь монастырь своими дикими криками и шипящими факелами во тьме, и звериным своим обличьем... Всего одна ночь — а целый короб доносов собрали на тебя!
Дак это ты, отче Филипп! Слава и надежда святой церкви... А я? Что же тогда говорить обо мне? Думаешь, по старости своей я не замечал, как изо дня в день, из года в год кто-то всё время роется в книгах моих и бумагах, под постелью, везде, где я мог бы спрятать хоть листок? И, думаешь, я, дряхлый старец, не понимал, кто ходит ко мне по влечению души, в поисках Божественной истины, а кто за тем только, чтобы, если повезёт, поймать меня на какой-нибудь ереси или крамоле и тотчас же отписать об этом царю?.. Прав! Прав ты был, Филипп... Страха ради иудейска... Но кто сегодня решится бросить за это камень в меня? Найдётся ли хоть один такой отчаянный человек во всей нашей безмолвно вопиющей земле, во всей оцепеневшей от горя и ужаса Руси?
И может быть, потому, отче Филипп, и жив я пока, и умираю своей смертью, на своей постели, а не на дыбе в царской Сыскной избе или на Лобном месте, на Торгу, что ничего я о царе нашем неправедном так и не написал, несмотря на все увещевания твои... А может быть, и просто потому жив, что никому я здесь не мешал, ни начальствующим, ни братии, ни самому последнему нищему, добравшемуся сюда, на край света, в поисках куска хлеба и сострадания к несчастьям своим... Почему-то же ведь не выдал меня Паисий царским слугам! Нет, не выдал — ни в первый их налёт сюда прошлой весной, когда они увезли с собой в Москву один лишь тот короб с доносами на Филиппа, ни во второй, той же осенью, когда в придачу к бумагам они поволокли за собой в цепях на верную смерть ещё и с десяток самых почитаемых в монастыре старцев, известных всем строгим житием и подвижничеством своим. На них как на доброхотов Филиппа Паисий показал, а на него, на Сильвестра, — нет! И никто другой не показал. Во всём монастыре... Темна человеческая душа! И никогда не узнать никому, отчего иной раз злоба из неё рвётся лютая, звериная, а иной раз слёзы льются чистые, младенческие, будто это уже и не тот же самый, а совсем другой какой человек.
О, какой же страшной была та ночь! Господи, владыка живота моего... Да воскреснет Бог, и да расточатся враги его во тьме... Крики, шум, лошадиное ржанье! Сполохи, как от пожара, в окне, гулкий топот множества ног, мечущихся из конца в конец по выложенным камнем проходам и переходам, по всему монастырю... А потом ещё и кто-то ударил в колокола...