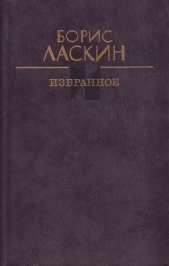Когда рушатся троны...

Когда рушатся троны... читать книгу онлайн
В книгу включен приключенческо-авантюрный роман "Когда рушатся троны" Николая Николаевича Брешко-Брешковского (1874 — 1943), представителя первой русской эмиграции. Его сравнивали с А.Дюма-отцом и Ж.Сименоном, о нем тепло отзывался А.Куприн. Его романами зачитывалась вся зарубежная Россия. Динамичные, остросюжетные произведения Н.Н.Брешко-Брешковского — увлекательное и легкое чтение. Пусть в этом убедится и современный читатель.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прошло еще несколько дней, таких будничных, деловых. Просмотр иностранных газет, писем, диктуемые ответы, — все в строго официальных рамках. Он похудел, он клялся, что идет во дворец в последний раз и, бессильный бороться со своей неразделенной страстью, размозжит себе череп…
И вновь нежданно-негаданно, уже в третий раз — голубой будуар… Был гаснущий осенний вечер, и хотя осень в этом краю благодатная, теплая, но горел камин, и было тепло, как в оранжерее. Не успел он войти, чьи-то руки, охватив его шею, привлекли к себе и, опьяненный этим прикосновением, знакомым ароматом духов и близостью упругой и теплой груди под гладким простым темным платьем, груди, касавшейся его груди, он с мучительным блаженством ощутил на губах поцелуй… Поцелуй королевы… И хотя этот поцелуй дал ему такое острое, нечеловеческое напряжение, за которое он готов был заплатить жизнью, чувственность, пылкая чувственность итальянца, до этой вожделенной минуты загнанная в клетку, как дикий зверь, уступила свое место, — славянская кровь матери, — молитвенному благоговению. Он как-то соскользнул весь вниз, вдоль прекрасного, трепещущего желанием тела Маргареты и, упав на колени, в священном экстазе коснулся губами подола ее платья, пахнувшего теми же самыми духами, и ее телом, и еще каким-то неуловимо дорогим, уютным запахом любимой женщины.
А дальше, дальше совсем не помнил, как она его подняла с колен, смутно помнил, как они сидели вдвоем на узеньком диване, прижавшись друг к другу. В мягких сумерках пылающий камин дышал им в лицо сухим жаром. Смутно помнил что-то похожее у себя на легкий нервный припадок, окончившийся какой-то детской, покорной истомой и, если и не детскими, то, во всяком случае, обильными слезами… И, как сквозь сон, ощущал прикосновение холеных, мягких пальцев. Они нежно успокаивали и вместе с тем обещали. Гладили его лоб, лицо, волосы. И это все тихо, тихо, — без слов. Они сейчас не нужны были, такие бледные, слабые в сравнении с тем, что безмолвно говорила и пела душа…
А когда он выплакался и, не вздрагивая больше, затих, эта же самая рука с мягкой властностью потянула его за собой. Он шел, пьяный нечеловеческим счастьем своим, шел, не замечая на пути мебели, наталкиваясь на нее. И когда ему казалось, что перед ним сплошная стена, а он на нее наткнется, вдруг в этой самой стене, точно в сказке, открылась маленькая незаметная дверь.
Принимать любовника в спальне королева считала вульгарным и не снизошла бы до этого никогда. Вот почему перед секретарем Ее Величества открылась маленькая потайная дверь. Она ввела его в квадратную небольшую комнату, сплошь в драпировках и без окон, освещаемую электричеством, в мягких, цветных полутонах и с широким низким восточным диваном посредине. К этой комнате примыкала крохотная уборная. Комната, где раньше складывались чемоданы и дорожные сундуки, превращена была в уютное затерянное гнездышко. Только одна Поломба посвящена была в новое назначена комнаты без окон и с широкой оттоманкой. Но Поломба умела молчать. Заботливой рукой сервирован был столик с шампанским, конфетами, вазой фруктов. Но еще большая была проявлена заботливость в широком, очень широком халате, шелковом на черной подкладке, брошенном на диван, и в бело-розоватых, как человеческая кожа, мягких котурнах, стоявших на ковре.
Смягченная голубоватым матерчатым абажуром лампочка создавала призрачный свет, какое-то призрачное настроение. Лица королевы и ее секретаря чудились голубоватыми.
И когда начали пить шампанское, холодное, бодрящее, так легко и ярко возбуждающее, и начали есть шоколадные конфеты и груши, как ни был захвачен счастьем своим темпераментный итальянец со славянской душой, от него все же не ускользнуло, что гордая, неприступная Маргарета, под впечатлением новых поцелуев и вина, превращается в вакханку.
Да и раньше в ней под этим холодным великолепием жила вакханка, жила вместе с королевой, но королева подавляла вакханку, подчиняла ее сильной воле своей до тех пор, пока считала это необходимым. И вот в тридцать семь лет, когда минула вторая, вернее, третья молодость, она с ужасом спохватилась: еще каких-нибудь десять лет, и все будет кончено. Увянет сначала лицо, увянет вслед за ним и тело, могущее более сопротивляться времени, и конец — осень, безотрадная осень с завыванием холодного ветра, гонящего скрюченные, пожелтевшие листья…
Так для чего ж, так зачем берегла и тщательно холила и сохраняла она себя, обжигая лицо паровыми ваннами и перенося ежедневные пытки водой? И тем ужасней, тем трагичней это все, что множество самых красивых, самых видных, самых элегантных мужчин всегда и неустанно желали ее и желали мучительно… Желали, не подозревая, что под этим гладким, темным, почти монашеским платьем ответным желанием трепещет прекрасное тело вакханки…
Судьбе угодно было, в конце концов, чтобы пал ее выбор на самого пламенного, самого романтического поклонника. И вот они вдвоем пьют искрящееся вино, пьют из узких длинных бокалов, пьют из уст друг друга, и замороженное шампанское кажется им раскаленной лавой, огнем, зажигающим кровь, зажигающим все тело, все существо… И вдруг резким движением она поднялась. Его сердце перестало биться. Он подумал, что она уходит, уходит, совсем, отравив его смертельным ядом и обрекая его на новые страдания, еще более мучительные, чем предыдущие.
Тихое, как шелест:
— Тебе жарко в этом… Жди меня, я приду… жди… — и, легонько тронув его за борт черной визитки и бросив скользящий взгляд на широкий японский халат и на котурны телесного цвета, Маргарета исчезла.
Он понял все, понял ее «ты». Понял, что ей таким же самым «ты» он никогда не ответит. Никогда. Ее же «ты» особенное, деспотическое, — «ты» какой-нибудь древнеегипетской или вавилонской царицы, приблизившей к себе молодого всадника из фаланги дворцового конвоя. И понял он, что ему надо раздеться донага и облечь свое молодое тело в этот освежающий прикосновением холодного шелка халат…
Он вспомнил их первую беседу об искусстве в голубом будуаре, вспомнил, что любовный пир богов — это пир наготы, но и вспомнил также, что и боги должны быть обуты в сандалии или котурны. И когда, запахнувшись в халат, в который можно было бы запахнуться втроем, он ждал изнемогающий, неутоленный, бесшумно открылась и закрылась маленькая дверца. Он увидел свою королеву в таком же, как и он, халате. Увидел сверкнувшую руку из откидного широкого рукава. Пальцы тронули выключатель, и мягкий голубоватый свет мгновенно сменился густыми потемками.
Она подошла к нему. Еще не было прикосновения, и он уже чувствовал ее, чувствовал какое-то неотразимое, влекущее, притягивающее тело… У него подгибались колени. Она толкнула его; еще толчок и еще, заставивший подойти вплотную к дивану и опуститься на него правым плечом. Он ничего не видел, но услышал едва уловимое шуршание медленно спадающего на ковер шелка. И вслед за этим почувствовал рядом с собой тело своей богини. Она прижалась к нему, ласкающая и требующая ласк, упругая и нежная, сводящая с ума. Он запахнул ее в свой халат, и они стали еще ближе, теснее, а две руки двумя гибкими лианами крепко и судорожно обвились вокруг него. И вспыхнули какие-то горячие молнии, подхватили их, закружили в своем огненном вихре, и трудно сказать, где начиналось неизъяснимое, острое наслаждение и кончалось такое же острое, неизъяснимое страдание…
10. В МАСТЕРСКОЙ ЗНАМЕНИТОГО ХУДОЖНИКА
Профессор Тунда был крупным талантом, весьма и весьма многогранным. С одинаковой легкостью, с одинаковым блеском, с одинаковой изумительной яркостью волшебных красок своих писал он и эффектные великосветские портреты, и пейзажи, и картины — батальные, исторические, жанровые, и в то же время почти не знал себе соперников в области декоративной живописи.
Если бы он не так любил женщин, вино, игру и вообще веселую кипучую жизнь, он творил бы гораздо больше и, пожалуй, творчество его было бы серьезнее и глубже. Но этого маленького подвижного человека с густой шапкой вьющихся пепельно-седых волос надо брать таким, каким он был. И, кто знает, если б от профессора Тунды отнять его увлечение прекрасным полом, у которого он имел успех, несмотря на свой более чем почтенный возраст, если б отнять у него дорогие сигары, коньяк, азартные игры, — почем знать, может быть, лишившись всех этих возбуждающих удовольствий, он утратил бы и свою богатую, неистощимую фантазию, а его яркие краски побледнели бы…