Ливонская война
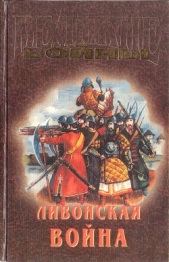
Ливонская война читать книгу онлайн
Новая книга серии «Великие войны» посвящена одной из самых драматических войн в истории России — Ливонской войне, продолжавшейся около 25 лет в период царствования Ивана Грозного. Основу книги составляет роман «Лета 7071» В. Полуйко, в котором с большой достоверностью отображены важные события середины XVI века — борьба России за выход к Балтийскому морю, упрочение централизованной государственной власти и превращение Великого московского княжества в сильную европейскую державу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А мял?..
— Дык сие-т што?! Вовсе не то приятство. Высечь бы!..
— А замок пошто порушен? — насупляется Пивов, заметив на одном из сундуков погнутую дужку замка.
— Дык… испытал — нешто сломить нельзя?!
— А как кугмач [131] твой испытаю?
— Дык… — Махоня виновато отворачивается от грозного лица дьяка, но дьяк перешагивает через сундук, сует Махоне под нос кулак…
— Будет тебе пригожее житьё!
— Дык… — виноватится Махоня, — всё едино пусты. Всю уж казну пропировали да провоевали. Последнее старичанам на зелие вытрухиваешь.
— Ишь ты?! — дивится Пивов. — Откель тебе ведомо про сие?
— Сам-то ты, Угрим Львович, во хмелю сие бубнил.
— Вот те на!.. — поражается Пивов. — Высечь надобно меня… Высечь, высечь! — сокрушается Пивов.
— Дык чаво — поусердствую, Угрим Львович, — услужливо говорит Махоня.
— Тебе бы токо сечь!
Приходят кабатчики. Махоня нехотя слазит с сундуков, садится в углу… Кабатчики начинают торговаться с дьяком — не хотят уже выставлять десять бочек за те же деньги, убыточно, мол, оптом, от кружечной торговли прибыль большая… Хвалуют дьяка согласиться на семь бочек.
Пивов, раскорячась, садится на один из сундуков, захватывает в кулак свою бороду — зловещее сопение его начинает терзать скряжные души кабатчиков. Некоторое время они маются, перескрипывают половицами, утружденно и горестно перетаптываясь, как на панихиде, наконец, перестрадав, обмыслив, подсчитав, добавляют ещё одну бочку. Пивов продолжает восседать на сундуке, как на троне. Половицы начинают скрипеть ещё жалобней, лица кабатчиков натужно осклабливаются в льстивой улыбке — душу готовы уступить дьяку, только не лишнюю бочку, но Пивов непреклонен:
— С кем торгуетесь, ялыманщики, — с царём! Он вас от татарвы щитит, от литвина щитит, от ляха щитит, вон — пять сундуков серебра истратил, чтоб вам, корнодухим, вольготно во всём было, а вы жлобитесь, мошну свою бережёте!
— Торг дружбы не знает, Угрим Львович…
— Пета бяху [132], — отмахивается Пивов. — Десять бочек, и ни единой мене! Не то — вон томится без дела наш заплечник, а у него плёточки по сходной цене!
Сдаются кабатчики. Пивов отмыкает сундук, начинает отсчитывать по деньге, кидая их в рот. Накидав сотню, выплёвывает вместе со слюной в ладони кабатчикам. Их пятеро — каждому по пяти сотен серебряных лепестков, маленьких, тоненьких, как скорлупа тыквенной семечки. Долго тянется счёт: кабатчик, приняв от дьяка сотню монет, принимается в свой черёд забрасывать их за щёку, пересчитывая…
— Единую недодал, Угрим Львович…
— Проглотнул, ялыманщик! — сердится Пивов.
— Резаная, Угрим Львович…
— Вы, мошенники, и портите деньги.
— Не по-божески, Угрим Львович, трёх недодал!
— И не подавился, ялыманщик? — только удивляется Пивов.
Незадолго до полудня на старицком торгу вновь вышибают из бочек днища… Пивов первым прикладывается к ковшу: вино не больно доброе, смешанное с медовухой, зато крепкое! Пивов косится на стоящих тут же кабатчиков — сплутовали-таки, мошенники! — но снова заводиться с ними ему не хочется. Ему хочется квашенины, хочется спать…
— Давай, давай, люди, подходи! — громко зазывает Пивов. — Гуляйте, пейте здравие государя нашего Иван Васильевича!
И опять накатывается на Старицу пьяная одурь.
Наехали на торг царские охоронники, отпущенные Зайцевым на разгулку, и не по одному ковшу пропустили — многие и на лошадей еле повзлезли, — а потом пустились брать своё…
И тёплые избы, и сытный корм, и девок — все раздобыли для себя ретивые молодцы в чёрных шубных кафтанах, обшитых по плечам и вороту дешёвой серебряной парчой, — в такие кафтаны обряжал царь своих охоронцев, дабы всяк отличал их от простых ратников. В три дня истерзали они Старицу, так истерзали, что будто чёрное поветрие пронеслось над ней. Ефросинья, которой доносили обо всём, что творилось в Старице, была на редкость невозмутима, целыми днями сидела за ткацким станком и велела бесчинно выпроваживать всех жалобщиков.
Явились к ней уличные старосты, просили заступиться, урезонить распоясавшихся охоронников, от бесчинства которых многие старичане, побросав избы и добро, побежали с семьишками прятаться в монастыри. Но и старост выпроводила Ефросинья, сказав им, чтоб не шли они больше к ней, а шли бы к самому царю, ибо его злой волей занесены на Старицу страдания.
10
Возвращающегося в Старицу Ивана ждала радостная весть: царица Марья родила сына. Привёз эту весть брат царицы — Михайло Темрюк. В Старицу он прискакал за день до возвращения царя… У самого крыльца упал загнанный им конь. Михайло, шатаясь, взошёл на крыльцо и, узнав, что царя нету в Старице, тоже свалился, мертвецки уставший от непрерывной десятичасовой скачки. Утром он ещё был в Москве, а ночь всю, не отходя, провёл перед дверью царицыной спальни. Перед рассветом утихли натужные крики Марьи, и повитуха отворила тяжёлую дверь…
— Мальчонка, — известила она кратко.
Михайло впрыгнул в седло и, оставив на двухстах вёрстах ещё четырёх лошадей, к трём часам пополудни был в Старице.
Чуть отлежавшись, выпив полкувшина вина, раздосадованный отсутствием царя, но по-прежнему бешено радостный, гордый и неукротимый в своей радости, оттого что теперь кровно породнён с царём, Михайло заметался по старицким хоромам, по подворью шальным, восторженным демоном, ища, куда бы выплеснуть переполнявшую его радость, ища, чем бы отвести душу, выярить её, вытомить, запалить, загнать, как загнал в бешеной скачке лошадей. Выхватив из ножен свой большущий кавказский кинжал, бегал он по подворью, бегал и пританцовывал, хлеща сверкающей сталью такую же, как и он сам, радостную и буйную прозрачность, неудержимо падавшую на землю с мартовского неба. Слепящее солнце раззадоривало его, дразнило, и он в весёлом неистовстве кромсал его кинжалом.
Старицкая челядь разбежалась и попряталась. На крыльце в грузной стойке, скрестив на груди руки, стоял Пивов и равнодушно наблюдал за разбесившимся Темрюком.
«Ишь, юродствует! — беззлобно, с брезгливым самодовольством думал дьяк. — Залетела ворона в царские хоромы: перья много, а лету нет! Дармоед! Шесть тыщ рубликов в прошлом годе высосал из казны… Треть Старицы откупить можно, и всё баскаку [133] мало! Ноне, поди, по племяннику подарки канючить станет?!» — Пивов поприкинул в уме, сколько у него ещё осталось серебра после трёхразовой выдачи старицким кабатчикам — оставалось немного… Пивов твёрдо решил: «Не дам!» Царскую казну он берёг ревностней, чем свою собственную.
Темрюк неистовствовал весь день, да когда ещё узнал, что царские охоронники оставлены в Старице, придумал и вовсе помрачительное дело — разослал их по всем старицким колокольням и велел беспрестанно звонить всю ночь, и всю ночь стонали над Старицей изнасилованные колокола, стонала земля, разверзалась над ней бессонная темнота, и в гулкое небо билось жалобное эхо.
11
— Государь! — Темрюк упал перед Иваном на колени, яростно, восторженно метнул к нему руки. — У тебя — сын! Вчера, на рассвете!..
Иван только-только вылез из саней… Темрюк и шагу не дал ему сделать, загородил дорогу к крыльцу, где с подарками ждали Ивана старицкие бояре.
— Благодарю тебя, Господи, за дар твой! — медленно перекрестился Иван, поднял глаза к небу и радостно, по-детски, улыбнулся. — Благодарю и тебя, Михайла, радость привёз ты мне… Истомилась моя душа по радости, истомилась вкрай! Подымись, Михайла, поцелуемся! Ты — за племянника, я — за сына!
Михайло поднялся с колен, поцеловался с Иваном. Вылез из саней и подошёл к Ивану князь Владимир, радостно протянул к нему руки:
— Дозволь поздравить тебя, государь! — Даже сейчас Владимир не решился назвать Ивана братом.

























