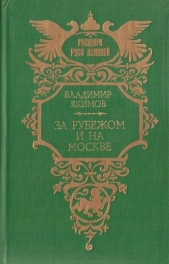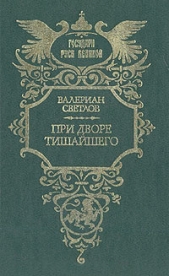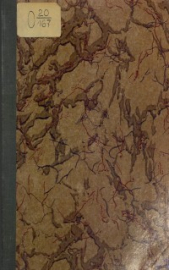При дворе Тишайшего. Авантюристка

При дворе Тишайшего. Авантюристка читать книгу онлайн
Перед вами два исторических романа замечательного русского писателя Валериана Яковлевича Светлова (1860–1934).
В увлекательнейшем произведении «из времен царствования Алексея Михайловича» «При дворе Тишайшего» В. Я. Светлов сумел увидеть историю по-новому, настолько интересно воссоздать жизнь людей того времени, с их радостями и горестями, переживаниями и раздумьями, что целая эпоха предстает перед читателями так, будто она раньше была ему неведома.
Несколько поколений вглядывались в Кунсткамере в черты лица женщины, голову которой столь безбожно долго сохраняли для обозрения, и с интересом познакомились бы с тем, как представил писатель в романе «Авантюристка» жизнь этой преступно известной фрейлины петровского времени.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Отойди, старуха! — говорили они ей. — Не замай — плохо будет!
Марта продолжала отбиваться от солдат и в борьбе выронила платок, вымоченный в крови Феликса. Она не заметила этого, так как решительно была вне себя…
Марья Даниловна нагнулась и, машинально подняв платок, спрятала его у себя на груди.
— Ведите их! — сказал офицер нетерпеливо, так как его раздражало сопротивление Марты. — И помните, вы отвечаете мне за их безопасность…
Офицер вышел.
Солдаты хотели схватить Марью Даниловну, но она, гордо вскинув головой, вырвалась из их рук, величественно выпрямилась и пошла за Мартой, которую солдаты с большими усилиями волокли под руки.
Старуха не плакала. Полное оцепенение напало на нее. Она сидела на стуле, качала головой и тихо, еле слышно говорила:
— Феликс, Феликс, Феликс…
Пастор стоял около нее, скрестив на груди руки, и губы его, побелевшие от волнения, тихо шептали слова молитвы.
Канонада прекратилась. Шум на улицах постепенно утихал. Шел дождь, и холодный осенний ветер резкими порывами врывался в зал таверны.
Становилось сыро и холодно.
— Пойди к себе, несчастная старуха! — сказал пастор, обращаясь к тетушке Гильдебрандт. — Стань у распятия и вознеси горячую молитву Богу, чтобы Он упокоил душу нашего славного Феликса и даровал счастье, если оно еще возможно, его молодой вдове.
Но старуха теперь уже не прибавила к его словам обычного своего возгласа «Аминь!» и даже вряд ли слышала его речь.
Она все продолжала качать головой, и запекшиеся, сморщенные губы ее все так же шептали:
— Феликс, Феликс, Феликс…
Ночь проходила.
Одна за другой гасли звезды, блиставшие среди тяжелых и низко ползущих, точно разорванных облаков. Далеко-далеко на восточной части неба показался бледный, робкий свет предутренней зари. Глухо били барабаны, тускло догорали костры, кое-где раздавались топот копыт, лязг оружия, отрывок песни.
Забранные солдатами женщины шли по топким и намокшим от продолжительного дождя улицам взятого города. Ноги их вязли в глубоких колеях, образовавшихся от проезда пушечных лафетов, и им было тяжело ступать по этой грязи, спеша за солдатами, шагавшими широкими шагами и спешившими сдать начальству порученных им женщин.
Марта, по-видимому, успокоилась. Она шла, низко опустив голову, холодная и гордая теперь, затаив, задушив на дне души своей глубокую горестную рану.
Марья Даниловна шла бодро. Какая-то смутная мысль вызывала на ее красивых устах презрительную и самодовольную усмешку. И в ее голове складывались планы, о которых она никому не поведала бы в настоящую минуту, да и для нее самой они были еще не окончательными.
Солдаты шагали, покуривая трубки. Они перекидывались изредка словами, иногда грубыми шутками, заставлявшими краснеть Марью Даниловну.
Х
Фельдмаршал сидел в своей палатке на простой деревянной табуретке и курил трубку.
Перед ним, на другой табуретке, стояла кружка пива, доставленного ему в бочке из только что взятого русскими Мариенбурга.
Был ранний час утра, но, несмотря на это, он с наслаждением выпивал уже третью кружку и наполнял едким дымом табака палатку.
Невдалеке от него сидел за убогим столом молодой офицер.
Фельдмаршал Шереметев, отпив пива из кружки, сказал своему ординарцу:
— Достань последнее царское письмо, полученное нами, и прочти его. Соответственно оному следует отписать царю о нашем походе.
Офицер порылся среди бумаг, лежавших на столе, достал большой лист синеватого цвета, откашлянулся, вгляделся в крупные и неровные каракули царского письма и не особенно бойко прочитал его:
«Есть возможность, что неприятель готовит в Лифляндию транспорт из Померании в десять тысяч человек, а сам, конечно, пошел к Варшаве, теперь истинный час — прося у Господа сил помощи — пока транспорт не учинен, поиском предварить…»
— Так, довольно, — прервал чтение Шереметев.
Офицер вопросительно взглянул на него.
— Что писать прикажете? — спросил он фельдмаршала.
— А ты не торопись. Торопливость в таком деле негожа.
И он погрузился в думу.
Но ответ царю не складывался в его уме, и фразы, обыкновенно так легко сочинявшиеся им, на этот раз закапризничали.
— А что в царском письме дальше? — спросил он, чтобы выйти из затруднения и дать себе время.
Офицер опять взял синюю бумагу и, недолго порывшись, чтобы отыскать место, на котором остановился, прочел:
«Разори Ливонию, чтоб неприятелю пристанища и сикурсу своим городам подать было невозможно…»
— Так! — прервал фельдмаршал, очевидно, надумав ответ. — Теперь приготовься…
— Готов.
— Пиши же: «Чиню тебе известно, что Всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь…» Всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь… Написал ли?
— Написал.
— …«Пресвятая Богоматерь желание твое исполнили. Больше того неприятельской земли разорять нечего, все разорили и опустошили без остатку… И от Риги возвратились загонные люди и от самой границы польской; и только осталось целого места…» Написал ли?
— Написал.
— И «целое место» написал?
— Половину… «места» еще не дописал.
— Пиши… А коли готов, пойдем дальше: «целого места Пернов и Колывань, и меж ими сколько осталось около моря, и от Колывани к Риге, около моря же, да Рига, а то все запустошено и разорено вконец. Пошлю в разные стороны отряды калмыков и казаков для конфузии неприятеля…» «Конфузию» написал?
— Пишу.
— Изобрази. Пиши дальше тако: «Прибыло мне печали: где мне деть взятый полон? Тюрьмы полны и по начальным людям везде; опасно того, что люди какие сердитые, сиречь пленники! Тебе известно, сколько уже они причин сделали, себя не жалея; чтобы какие хитрости не учинили: пороху в погребах не зажгли бы; также от тесноты не почали бы мереть; также и занее на корме много исходит; а провожатых до Москвы одного полку мало. Вели мне об них указ учинить». Коли устал, отдохни малое время. Еще буду говорить тебе.
— Повели продолжать, Борис Петрович, все одно, одним духом скончать.
— Ну, так пиши! Еще немногое осталось. Пиши: «Больше того быть стало невозможно: вконец изнужились крайне, обезхлебили и обезлошадели, и отяготились по премногу как ясырем и скотом, и пушки везть стало не на чем, и новых подвод взять стало неоткули…» Конец. Ставь подпись. Поставил?
— Поставил.
— Ан, врешь, не конец! Еще вспомнил. Пиши. Э, братец, что там за шум? Будто женские голоса… Что это, право, отписать царю не дадут. Сходи, узнай-ка, кто шумит, и накажи всех — тех за шум, а этих за попущение к оному. А откуда также в лагере у нас женщины?
Офицер вышел, а фельдмаршал выпил остаток пива из кружки.
Офицер вскоре вернулся.
— Ну, что же там?
— Полковник Никита Тихоныч Стрешнев с казаками привели к тебе двух женщин.
— А что мне делать с этими двумя женщинами?
— Про то не ведаю. Они — немецкие пленницы.
— Зови сюда Стрешнева, коли так.
По приходе Стрешнева фельдмаршал спросил его:
— Ты что тут шумишь со своими пленницами, Никита Тихоныч? И что это за пленницы?
В это время в палатку его казаки ввели Марту и Марию Даниловну.
Обе женщины уже успели привести себя несколько в порядок. Лица их уже не носили прежнего выражения утомления. Яркий румянец играл на щеках Марии Даниловны, но Марта была все еще бледна, и хотя глаза ее уже не были красны от слез, но в них все еще стояло выражение глубокой печали.
Полковник с тревогой следил за взором фельдмаршала, но, к своему удовлетворению, увидел, что глаза Шереметева с особенным интересом остановились на Марте и довольно рассеянно и равнодушно скользнули по лицу Марьи Даниловны. Очевидно, она не произвела на него особенного впечатления, несмотря на всю свою красоту. Полковник этому очень обрадовался потому, что сердце его было уже покорено чудными глазами пленницы.
— Почто же ты их взял в плен, Тихоныч? — спросил фельдмаршал. — Нешто ты воевал с бабами? — засмеялся он.