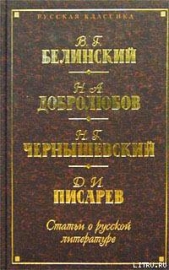«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
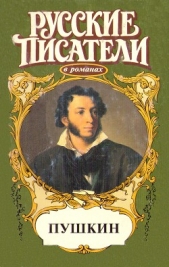
«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин читать книгу онлайн
Этой книгой открывается новая серия издательства «Русские писатели». Она посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Весь день он тыкался из угла в угол, прислушиваясь к лёгкому шуму дома, к вою ветра, к стону старых стен. Будто за всем этим можно было услышать ещё и звуки дальней, недоступной жизни.
Вечером, когда через сени пронесли свежее, вымороженное бельё, на минуту показалось, запах его наполнил дом, как перед праздником. Праздник представился детским, давним, какого, скорее всего, и не было никогда. Дух морозной свежести, однако, выдохся столь же скоро, как мимолётные, им разбуженные надежды на то, что перемелется — мука будет... Ему не спалось. Несколько ночей подряд он выходил на широкий, занесённый снегом двор. Луна шныряла между облаков, всё неслось, всё торопилось в снежном, неприютном беге. Только он был на привязи.
Он смотрел в сторону Петербурга (так ему казалось) с досадой. Из писем, которые шли по почте, не много можно было понять. Жизнь, играя сама с собой в жмурки, катилась будто бы по привычной колее: в столице готовились новые альманахи, у него вышла и хорошо раскупалась первая книга стихов, следовало бы сразу же тиснуть «Цыган»; «Эда» Баратынского была прелестна. Карамзин болел тяжело, истаивал вместе с концом прежнего царствования. Гигантский труд его всё ещё оставался незавершённым, но Пушкин тосковал о человеке...
Пущин сидел в крепости, Кюхельбекер сидел в крепости. Дворовый пёс, лобастый и мохнатый, подошёл, заглянул в глаза, спрашивая:
— Тоскливо, брат? Такая тоска...
Но это он сам спросил и сам ответил, похлопывая по свалявшейся, забитой снегом почти волчьей шерсти. Потом пошёл к крыльцу, оглянувшись, позвал за собой собаку. Всё лучше было, чем одному сидеть перед огарком свечи или валяться в постели без сна, но зато с точным ощущением мёртвых, непреодолимых вёрст хоть до Петербурга, хоть до каких других мест, где — жизнь... Впрочем, не замерла ли она везде, и не только от морозов? Но, главным образом, от фельдъегерских пронзительных троек, скачущих по всем направлениям огромной державы, с тем чтоб до одного выловить, привезти в столицу под конвоем и в цепях осмелившихся на безрассудство.
В комнате ещё держалось тепло от вытопленной па мочь печки, пёс лёг, деликатно свернувшись у самого порога. Дремал, изредка открывая глаза, затем, чтоб узнать: а не пора ли восвояси? Не за то ведь ему служба шла, чтоб трясти блох на хозяйский ковёр. Или проверял, чем занят хозяин? Не хочет ли снова протянуть руку и сильно, ласково, так, что надолго запоминалось, потрепать по холке?
Хозяин сидел к нему спиной, не оглядываясь. Спина была понурая.
Пушкин писал Дельвигу: «Мне сказывали, что 20, т. е. сегодня, участь их должна решиться — сердце не на месте; но крепко надеюсь на милость царскую. Меры правительства доказали его решимость и могущество. Большего подтверждения, кажется, не нужно. Правительство может пренебречь ожесточение некоторых обличённых...»
Через много лет он скажет: и милость к падшим, призывал. Призыв в данном случае, как и во многих других, смахивал на указание пути.
Надо было бы и о себе напомнить царю. «Вопрос: невинен я или нет? но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в Петербурге. Вот каково быть верноподданным! забудут и квит. Получили ли мои приятели письма мои дельные, то есть деловые? Что ж не отвечают? — А ты хорош! пишешь мне: переписывай да нанимай писцов опоческих, да издавай «Онегина». Мне не до «Онегина». Чёрт возьми «Онегина»! я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите».
— А мне действительно всего двадцать шесть, — сказал он вслух голосом глухим и тихим. Палец его накручивал пряди тёмных кудрявых волос, глаза смотрели — не видя...
Чувство несправедливости того, что предлагала судьба, охватило его тягостным оцепенением. Нужны были действия, решения, но — какие?
Невнятно доходили новости из Петербурга. Фигура царя маячила в таком отдалении — ничего не разглядеть. Каков? Чего от него ждать России? Чего ему самому?
А главное, что будет с теми, кто недавно были его друзьями, товарищами, собеседниками? Теперь же назывались: государственные преступники?
Волчий тоненький вой наконец пробился сквозь пространство, сквозь двойные рамы и мысли о будущем.
...В марте он писал Жуковскому:
«Вступление на престол государя Николая Павловича подаёт мне радостную надежду. Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».
Такое письмо можно было показать кому угодно из тех, кто близко стоял к царю, а то и ему самому. Но Жуковский хотел получить от него нечто, писанное в совершенно другой тональности. Что делать? В этом случае потрафить Жуковскому он никак не мог.
И наконец где-то между серединой мая и половиной июня он написал письмо царю.
«Всемилостивейший государь!
В 1824 году, имев несчастие заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства.
Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твёрдым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чём и готов обязаться подпискою и честным словом) решился я прибегнуть к Вашему императорскому величеству со всеподданнейшею моею просьбой.
Здоровье моё, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чём и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие край.
Всемилостивейший государь,
Вашего императорского величества верноподданный
Александр Пушкин».
Была середина октября 1826 года, но дни стояли ясные, пронзительные. Когда он поднимался по бульвару, под ногами шуршали листья, ещё не тронутые тленом, почти нарядные. Дух от них шёл чистый, прелью не отдавали даже те, что лежали на самой земле. Земля, за ночь схваченная сахарной корочкой инея, была всё же податлива под ногами. Он поднялся на носки, пробуя её пружинящую мягкость, а когда прихлопнул каблуками, один разлапый весёлый лист взлетел высоко и прицепился к панталонам. Пушкин засмеялся ему.
Конечно, откуда ему было знать, что стоит он как раз на том месте, где потом ему поставят памятник с поникшей в раздумье головой. До памятника (даже до того, который он сам себе воздвигнет пером на бумаге) оставалось ещё много лет. И голова его была поднята к небу. Он боролся с неудержимым желанием снять шляпу и помахать вслед облакам, проплывающим над златоглавым, пестро изукрашенным городом.
Облака плыли не такие высокие, как весной, в синеве их сквозил холод прощания. Они были похожи на корабли и движением своим вселяли неясную тревогу.
Он всё ещё стоял под опадающими, тихо, благостно светящимися деревьями, подняв голову к движущемуся небу, как вдруг из неведомой дали долетел трубный, настойчивый и мощный призыв. Лёгкий клин журавлей направлялся к югу...
Точно так же летели они над Курбским и Самозванцем, подъезжавшими к русской границе почти в этот же октябрьский день, но ровно 222 года назад. Цифра почему-то развеселила его. Он и в самом деле снял свою мягкую пуховую шляпу, махнул вслед птицам.
Он шёл к Веневитинову читать «Бориса Годунова».
Надо сказать, он не любил читать свои стихи и, уж конечно, не видел в этом для себя ничего лестного. А тут сам условился, почти напросился, если бы к нему подходило это слово...
Пошевелил плечами, словно платье стесняло в спине, что могло значить одно: он нервничал. Застегнул тёмный глухой жилет на последнюю пуговицу и вдруг вспомнил... Он боялся за «Бориса». Или нет! Он вовсе не боялся, знал свою правоту, когда, кончив пьесу и перечитав её вслух один, прыгал по утлой комнате в Михайловском, бил в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Он знал, что взглянул на историю взглядом Шекспира и не в новой форме тут было дело. А в том, что понял естественный ход вещей. Народ бессмыслен и составляет толпу до времени. «Пока не проняло, — сказал он вслух и купил сайку у разносчика. — Пока не припёрло», — поправил сам себя, с удовольствием впиваясь в пахучее тесто. Баба, нёсшая на плече большой, неудобный узел, обернулась. Лицо её с коротким носом оказалось миловидным и почти молодым. Он подмигнул ей и расхохотался. Баба сейчас же отвернулась, но по плечам видно было — тоже смеётся.