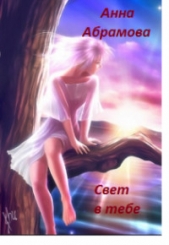Свет мой Том I (СИ)
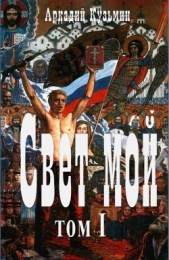
Свет мой Том I (СИ) читать книгу онлайн
Роман «Свет мой» (в 4-х книгах) — художественные воспоминания-размышления о реальных событиях XX века в России, в судьбах рядовых героев. Тот век велик на поступки соотечественников. Они узнали НЭП, коллективизацию, жили в военные 1941–1945 годы, во время перестройки и разрушения самого государства — глубокие вязкие колеи и шрамы… Но герои жили, любя, и в блокадном Ленинграде, бились с врагом, и в Сталинграде. И в оккупированном гитлеровцами Ржеве, отстоявшем от Москвы в 220 километрах… Именно ржевский мальчик прочтет немецкому офицеру ноябрьскую речь Сталина, напечатанную в газете «Правда» и сброшенную нашим самолетом 8 ноября 1941 г. как листовку… А по освобождению он попадет в военную часть и вместе с нею проделает путь через всю Польшу до Берлина, где он сделает два рисунка. А другой герой, разведчик Дунайской флотилии, высаживался с десантами под Керчью, под Одессой; он был ранен власовцем в Будапеште, затем попал в госпиталь в Белград. Ему ошибочно — как погибшему — было поставлено у Дуная надгробие. Третий молодец потерял руку под Нарвой. Четвертый — радист… Но, конечно же, на первое место ставлю в книге подвиг героинь — наших матерей, сестер. В послевоенное время мои герои, в которых — ни в одном — нет никакого вымысла и ложного пафоса, учились и работали, любили и сдружались. Кто-то стал художником. Да, впрочем, не столько военная тема в этом романе заботит автора. Одни события мимолетны, а другие — неясно, когда они начались и когда же закончатся; их не отринешь вдруг, они все еще идут и сейчас. Как и страшная междоусобица на Украине. Печально.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ведь зло не афишируют, как США делают в мире вроде бы бескровные цветные революции, начиная с Югославии. И Грузии. Это пауки.
XI
Много позже Иван Адамов, заехав к Косте Махалову на Васильевский остров, рассказывал ему и Антону Кашину, упросившим его по дружбе об этом, о своей молодой солдатской службе после того, как немцы осадили и блокировали город.
Они втроем сидели, вспоминали.
— Я начну от школы, сорок первого, — осекся Иванов голос, обычный, не крупный, как и сам он весь. — Балы школьные, июнь — и бах! Война! Это время характерное для нас, парней-однолеток: двадцать третий год рождения! Кто из нашего призыва на фронте уцелел? Один мой приятель, Слава, сейчас был бы уже академиком Павловым. Пошел в ополчение. Взрыв гранаты — и нет его в живых! Другой товарищ — мы под Невской Дубровкой встретились…
— Знаешь, Иван, ходил я в десантах под Керчью, на Днестре и на Дунае, — басовито вставил слова еще пышно — и черноволосый крупнолицый Константин, — но я преклоняюсь перед защитниками Невской Дубровки: они и голодные держали этот рубеж до конца. Не падали духом.
— Да, ребятки, не совру: мы шли в атаку по трое, по четверо, держась друг за друга, чтобы не упасть от слабости. — «Ваня!» — «Славка, друг!» — мы обнялись при краткой встрече здесь. А назавтра его уже убило. И по стопке водки мы с ним даже не выпили. Или третий — смелый, удалой, красивый, умный, с завидной силищей. Попал в плен к немцам раненым. Пять раз он бегал из лагерей немецких. И его ловили. А потом он, освобожденный, в нашей ссылке отсидел большой срок. После — что? — податься сюда, в город? Но родные уже умерли — его не ждет никто… В-общем, поломалась его жизнь… О том можно много говорить. Но не про все напишешь, — бросил Иван взгляд на самого младшего из них, товарищей, — Антона, который тут лихорадочно записывал в блокнот. И продолжал:
— Однако сказываются ценности моральные, вложенные в нас учителями тоже. Да, мы, ученики, и в бою чувствовали их с собою связь, я ни на йоту не приукрашу. Ни на гран. И теперь моя классная воспитательница, уже старенькая, не оставляет меня без внимания. Тут пригласила меня к ее нынешним ученикам. Мне неловко было — не герой какой: из наград — две Красные звезды, орден Славы, две медали «За отвагу» и другие. Как и что я стану говорить? Да она мне совет дала: «А ты и не рассказывай красивые истории; поведай просто, как ты жил и ушел из выпускного класса воевать. И я ей не отказал. Завсегда раскланиваюсь с ней, святой женщиной на улице, что и сотни ее, таких же воспитанников. Ну, позвольте… доскажу…
Я на полчаса раньше вошел в школьный коридор. Был еще урок. Вдруг с треском передо мной распахнулась дверь пятого класса «А». Сначала вылетел ученический портфель, шлепнулся на пол в коридоре; все из него рассыпалось, раскатилось. Следом же как-то вылетел и ученик — сынок моих соседей; видно его дернула учительница, молодая, гневная. Я посторонился. — «Что, Андрюша»? Андрюша же еще больше сконфузился передо мной — свидетелем его выставления вон из класса, книжки поскорей подобрал — и бежать прочь.
Что ж, видно, теперь не все умеют истинными педагогами быть.
Главное, при встрече со школьниками я по-честному признался, что, случалось, в школе оценки «плохо» получал, не блистал (чего уж!) поведением, но что не было, не было среди нас подлецов, кто бы прятался за своих товарищей. Все дорожились долгом. Исполнили его до конца потом.
Мы-то, точно не позаримся на заграницу, на тряпки заграничные: родную землю защищая, своей кровью обильно полили ее; вшивенький окопчик нам дороже всего. Ты отними ее, когда юпитеры не светят…
— Воистину! — воскликнул Махалов.
— Да, либо в мертвую за нее уцепишься… Мир построен все-таки на доброте. А если на злобе, принуждении, — вызывает обратные чувства. Я не ожесточился. Отнюдь. Великодушно говорил пленному немецкому солдату: «Nein!» Когда он с ужасом спросил: «Капут?!» И то по-настоящему доброе я испытывал под блокированным Ленинградом, в котором голодали, гибли жители, отчаивалась моя мать.
Я подозреваю, что изощренный эгоизм состоит именно в том, чтобы мучить людей. Мы, солдаты, изголодавшиеся сами, тотчас накормили пленных фрицев, хотя только что на наших глазах боец умирал, корчился от ужасной раны. Но разок я не выдержал — поддал-таки пинком под задницу наглому колбаснику, — он, видите ли, потребовал вернуть ему кепи, сбитую с его головы взрывом.
— Надо ж, оболваненный вояка! Расфуфыренный… Видали их…
— Представьте… Из разведки возвращались. С двумя языками. А тут мина — шарк! Ударила прямехонько в траншею. Радист обмяк — и сел; второй фриц побежал, а этот упал. Разведчик развернулся на ходу: тра-та-та! — снял… из автомата побежавшего. Попытались мы поднять радиста — руки отвалились у него; кто-то взял за ноги — ноги отвалились. Он все осколки от мины принял на себя! Оставили его. Остался он лежать на ничейной полосе. Сами понимаете… Я восемь месяцев знал его… А паразиту вынь да подай какую-то кепи! Мой дед погиб в Цусимском бою — это что-нибудь да значит. Спуститесь в запасник Военно-Морского музея — там мой дед в списках погибших значится. Моя бабушка меня еще маленького водила в часовню, где как прежде делалось, были тоже фамилии павших русских моряков записаны, помню.
Существует гордость великороссов. В нашей семье хранилась иконка, которой наградили еще при Петре Первом моего прапрадеда Кристофера. Кристофер по преданию был святой; оно гласит, что он взмолился пред богом: «Господи, сделай мне такую внешность, чтобы бабы не обращали на меня внимания». Тот и приделал святому лошадиную голову.
Итак, по порядку все. По всем журналам, в списках-регистрациях — я первый. Много в жизни пережил, очень много. И отец мой умер тяжело… уж после войны… Меня-то трижды призывали в военкомат и провожали соученики, чьи фамилии начинались с буквы «Б»; — и меня все не брали. Наконец я попал в казарму на Суворовский проспект. Трудно пришлось нам, призывникам, взятым с гражданки-то. С дисциплиной строго. Голодно. Бесконечные обстрелы и бомбежки. По двенадцать раз в ночь нас выводили в щели. По-первости приходили к нам матери на свидание, бывавшие в саду, да нередко те уже падали, дойдя, тут же, перед казармой. Нам выдавали по шоколадке из шести долей. Так я только одну дольку брал себе, остальные делил: на мать, на больного отца, на товарища-сослуживца, на кого-то еще… В декабре неожиданно произвели очередной выпуск бойцов — и вот тот сослуживец, кому я обычно предназначал шестую часть шоколадки, становится моим командиром. И я его чуть не застрелил вскоре…
— Как же! — не сдержался Махалов. — Да и у него, верно, тоже мать была — и он ей тоже, небось, шестую дольку шоколадную отдавал.
— Никто к нему не приходил, — говорил Адамов, — писем он не получал. Был же ленинградец. Но суть в чем. По случаю подвернулось нам троим такое, что мы продали (я до сих пор стыжусь этого поступка) воз дров. За пачку папирос да бутылку дешевого вина. Это роскошь — покурить; паек-то снизился почти до ста грамм хлеба… Нас застукал в коридоре наш новый лейтенант; «Встать! Кто курил?» Говорю: «Я курил». «Я так и знал! Кто еще?» Все признались. Завел он нас троих в уборную — там такие сталактиты наморозило: «Приказываю вычистить до блеска!» Ну, убрав, опять присели докурить папироски. А он, лейтенант, уже со злорадством прямо из-за двери — шасть к нам! Будто только и выжидал: «Ага! Опять вы дымите?! Марш за мной!» В уборной же налил — нажал на ручку и залил все этой гадостью. Мы ее убрали вновь. И вторично он проделал такой фокус с наслаждением. «Ну, типчик! Пятая колонна», — пришло мне на ум. А на третий раз мы уж не выдержали: дверь уборной закрыла на палку, да и дали вышибале звону, чтобы помнил нас. Дали за все. Он был при оружии. Стал стрелять из пистолета. Ввалились старшины.
![Торговцы [=Торгаши]](/uploads/posts/books/187865/187865.jpg)