Гнев Перуна
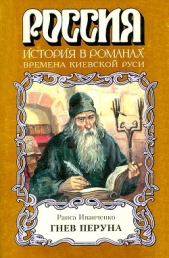
Гнев Перуна читать книгу онлайн
Роман Раисы Иванченко «Гнев Перуна» представляет собой широкую панораму жизни Киевской Руси в последней трети XI — начале XII века. Центральное место в романе занимает фигура легендарного летописца Нестора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как и ранее, сюда тянулись бездомные, погорельцы, нищие. Но всем уже не хватало работы. Отец Феоктист велел монахам отгонять тех, кто не работал на обитель, а лишь протягивал руки к опанам и толкался у тризницы.
Монахи только тем и занимались, что следили, дабы никто из новых прихожан не подставил плечо под бревно, которое несли по двору, дабы не влез в яму, где босиком размешивали глину. Наконец начали записывать на глиняных и навощённых дощечках имена своих людей и потом, когда монахи-повара раздавали в глиняных мисках кулеш либо кашу, сверяли по тем записям.
Десятки людей, яко голодные псы, рыскали вокруг и измученным взглядом смотрели на осчастливленных судьбой, которые после тяжёлой работы могли положить в рот душистую, хотя и постную еду, уже даже не чувствуя от усталости её вкуса. Эти жалкие бедняки садились в стороне, выжидательно наблюдали, как из опанов повар выскрёбывал остатки еды. Бывало, что эти остатки монахи относили назад, во двор. Бывало, что кто-нибудь из них смилостивится, отдаст этим нищим.
Как-то Гордята приметил среди них высокую смуглолицую девушку. Она никогда не просила у поваров-монахов поесть. Лишь когда что-нибудь доставалось двум старухам, всегда сидящим рядом с ней, они ей отделяли половину. Дивчина подставляла им какой-то черепок, из него хлебала отвар или, если это была каша, брала её пальцами, видимо, не имела своей ложки.
Тогда Гордята, сидя вечером у своего костра, из ивы выстрогал ложку и принёс ей. Она протянула к нему руку, радостно схватила длинными смуглыми пальцами белую пахучую ложку. Лицо её осветилось теплом больших карих глаз. Через несколько дней Гордята вылепил из белой глины миску, ещё и нарисовал волнистую полоску узора по краю. Миска долго высыхала на горячем летнем солнце. Он ежедневно бегал на солнцепёк, глядел на высыхающую миску, подставляя солнцу то одну, то другую её сторону. Наконец глина побелела, от лёгкого прикасания ногтем отзывалась глуховатым звоном.
Вечером раздавали кулеш. Жалостливые старухи отлили девушке в её черепок понемногу, и она ивовой ложкой начала хлебать его, как воду. Гордята подошёл в то мгновенье, когда она опрокинула из черепка остатки отвара прямо в рот. Протянул ей миску, удивляясь тому, как изменилось лицо девушки от искренней благодарности. Нежная кожа её лица зазолотилась лёгким румянцем, глаза — на пол-лица! — засветились капельками тёмного мёда. Она держала высоко перед глазами подарок Гордяты. Длинные пальцы её рук дрожали. Тогда он впервые услышал её голос:
— Это также мне?.. Но за что?
— Ну... так... — смутился Гордята. И удивился: разве дарят за что-то? Дарят от доброты.
Тогда она поднялась на ноги. И тут Гордята понял, почему она всегда сидела: она была тяжёлой.
Гордята ещё больше смутился.
— Ты кто — здатель? — Она восхищённо смотрела в его лицо.
— Я? Гордята... Был гончаром... Теперь вот... будто здатель.
— А я Рута, — таинственно улыбнулась одними очами. И, вздыхая, добавила: — Княжья Рута.
— A-а... — пробормотал растерянно Гордята, будто и в самом деле что-то понял в тех словах — Княжья Рута.
И снова стоял молча. Возвращаться назад — неудобно, о чём-то спрашивать — не знал о чём. Наконец догадался:
— Сделал отцу Феоктисту из глины храмец. Такой... небольшой. Для образа. Пригож вельми, молвили все. А владыка — не взял. Говорит — идольское капище напоминает.
— Идольское? — обрадовалась Рута.
— Ага, так он молвил.
— А какое? Как Перуново капище?
— Не ведаю. Не видел Перунова.
— А я видела. Под Каневом-градом. Когда мы убегали от хана Итларя, этой зимой, прятались в Перуновой пуще. Возле села Поляны.
— Ты убежала из полона? — поднял на неё глаза Гордята. — А половцы гнались? — Ему показалось, что так же его мать когда-то убегала от половцев.
— Как же!.. А мы пересидели в том капище.
— Какое оно? Расскажи.
— Ну, гляди! — Рута быстро опустилась на колени; разгладила ладошкой перед собой песок, взяла в руку сухой прутик и начала рисовать. Гордята примостился рядом. — Когда смотреть на него сбоку — оно вот какое... — На песке из-под прутика выросло несколько продолговатых островерхих вежищ. — А коль глядеть сверху — оно во какое... — Несколько одинаковых кружков стали рядышком один возле другого. Как лепестки огромной ромашки. — А посредине — вот такая круглая храмина... А если заходишь... — Рута ладонью опять разгладила песок, поползла коленками дальше, — тут будто столбы... девять столбов таких подпирают крышу.
Она вырисовывала капище так чётко, что Гордята будто видел всё это огромное здание. Тёмные волосы Руты рассыпались на плечах, закрыли лицо. Из-под этих волос остро и восторженно светились её удивительные глаза...
Вдруг она выпрямилась, замерла и оборвала свою речь. К чему-то прислушивалась. Выпустила из рук прутик, которым рисовала на песке... Обеими руками обхватила снизу свой живот.
— Бьётся... — засмеялась тихо. — Ох как бьётся!
— А как же ты... не боишься? — Гордята сочувственно смотрел на её просветлённое лицо. Где же она будет рожать? Куда денется с дитём?
— Боюсь... — прошептала она. — Боюсь идти домой, Гордята. И здесь... голода боюсь... Я ничего! Я умею терпеть... А вот оно...
— Нужно домой, — неуверенно посоветовал парень.
— Что ты! — испуганно посмотрела на него огромными, расширенными глазищами. — Мать помрёт от позора. Дочь, её дитя, приведёт в дом... от половчина... от хана... Что ты! Лучше умереть...
Глаза Руты потемнели. Что-то видели такое, чего никогда ему не дано увидеть. Гордята не знал, что сказать. Смотрел себе под ноги... Невинное дитя рождается на свет от позора... от кривды людской.
— Я завтра приду к тебе... Кое-что принесу...
Рута проводила его грустным взглядом. Все от неё убегают... И зачем сказала об этом хане? Ох, горюшко её неразделённое!.. Давит оно её, давит... Вот так убежит от неё и Славята, когда узнает правду. А соврать она не сможет. С ложью вдвойне тяжелее жить, нежели с тяжкой правдой... Говорил, когда бежали из полона, чтобы ехала в Васильков, а он её оттуда потом заберёт... Пусть лучше думает, что она где-то сгинула в снегах... или в прорубь провалилась...
Рута выпрямилась, пошатываясь полным станом, пошла к старухам. Спасибо им, ничего у неё не спрашивают. Шепчут свои молитвы неизвестно каким богам. Да чаще поглядывали в её сторону. Наверное, знают, что ей уж скоро...
И на второй день горели вокруг Печерской обители костры. Возле одних отдыхали строители, возле других — грелись бездомные. Гордята подхватил на плечо свой мешок, направился через сухую полынь и чабрецы к крайнему костру, где вчера оставил Княжью Руту. Она ела свою похлёбку из новой мисы и новой ложкой. Дразняще пахло старым салом. Лицо Руты радостно засияло навстречу Гордяте. Стыдливо поставила мису на землю. Виновато улыбнулась:
— И откуда берётся... так есть хочется — волка бы съела...
— Вы же вдвоём... — степенно молвил печерский здатель, будто прожил уже целый век и набрался житейской мудрости. — Я тебе ещё перелечу принёс. Свежая! Поешь...
Рута решительно протянула руку к куску свежей перелечи — забыла уже, какова она и на вкус... Бросила за пазуху.
— Хотя бы уж быстрее...
— А я вот ему забавку принёс. Гляди, — Гордята засунул руку в мешок, вытащил оттуда свой глиняный храмец и поставил на землю.
— Ай! — Рута от восторга всплеснула руками. Это был маленький сказочный дворец, вылепленный из глины. Рута упала перед ним на колени и локти, осматривала, чему-то улыбалась, в удивлении шевелила тонкими бровями. — Небушко! А какие окошки... и дверцы... сколько же их тута! Один, два... пять... девять! А вот лошади на узорах. Ишь ты, как летят, будто наши жеребцы, когда мы бежали из плена... Это ты сам сделал?
— А кто же...
— Ой... — На глазах у Руты блеснули слёзы. — Доброе сердце имеешь.
Гордята ушёл. В темень ночи. На зов своих костров.



![[Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова]](/uploads/posts/books/60472/60472.jpg)





















