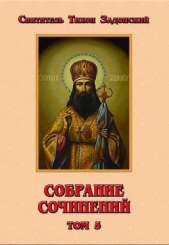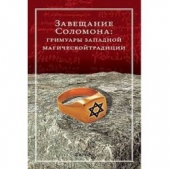Инквизитор

Инквизитор читать книгу онлайн
Кэтрин Джинкс живет то в Австралии, то в Канаде, но всю свою жизнь увлеченно изучает Средневековье, эпоху Крестовых походов и великих рыцарских орденов, рвавшихся к власти в Европе и Азии. Об этой эпохе она пишет и свои книги, пользующиеся неизменным успехом в англоязычном мире. Новый роман Джинкс переносит нас во Францию XIV века, в годы, когда католическая церковь ведет войну на уничтожение с еретиками-альбигойцами. Движение альбигойцев или катаров, отвергавших церковную иерархию и папство, охватило, начиная с XII века, всю южную Францию, увлекая и знать, и простолюдинов. Дело о катарской ереси расследует инквизиционный суд, составленный из монахов-доминиканцев, но следствие обрывается зверским убийством старшего инквизитора отца Августина. Поиски убийцы возвращают его подчиненного, брата Бернара, к запутанным событиям пятидесятилетней давности. На пути к разгадке Бернар не только узнает страшную тайну отца Августина и обнаруживает предателя в своем ближайшем окружении, но и встречает свою любовь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Блаженный Августин говорил о дружбе, как познавший сию благодать в чистейшей ее форме. «Было и взаимное обучение, когда один учит другого и в свою очередь у него учится, — писал он о друзьях, — тоскливое ожидание отсутствующих; радостная встреча прибывших. Все такие проявления любящих и любимых сердец, в лице, в словах, в глазах и тысяче милых выражений, как на огне сплавляют между собою души, образуя из многих одну».
Что может служить более верным выражением дружбы, чем спасение жизни друга? Поздно же я понял, что Дюран был моим настоящим другом. Я верю, что наша дружба была того рода, который определил и прославил Цицерон. Но нотарий был так сдержан и скрытен в проявлениях своей любви, она цвела в нем таким скромным и нежным цветком, что я едва не растоптал его ногами. Ослепленный нашей с Иоанной пламенной страстью, я не заметил более спокойного, прохладного, тихого чувства Дюрана.
Подобный дар есть одна из величайших благодатей Господних: больше, как говорит Цицерон, чем огонь и вода. Я как сокровище храню память о дружбе Дюрана. Я храню ее в своем сердце.
Да пребудет с ним милость Господа Иисуса Христа, и любовь Всевышнего, и причастие Духа Святого да пребудет с ним.
Остаток дня тянулся медленно. Я провел его во сне и тревогах, в нестерпимо великом возмущении духа. Я, конечно, молился, но покоя не обретал. В вечерню или около того под дверь мне просунули записку; она состояла из единственного слова «да», начертанного рукой Дюрана. Но даже это не могло успокоить мою смятенную душу. Это просто обрекло меня на путь, которого я невольно и отчаянно страшился и который, по всей видимости, был обречен на неудачу.
Пьер Жюльен ко мне не заглядывал. Его отсутствие говорило о том, что он занят Алкеей и остальными; едва он получит достаточно свидетельств против них, он использует это против меня. Как вы, наверное, догадываетесь, я был полон тревог об Иоанне. Что, если я отопру дверь и увижу… Боже милосердый, если она не может идти? Я помню, что когда эта мысль впервые пришла мне в голову, я вскочил с постели, ломая руки, и заметался, как волк в клетке. Я помню, как колотил себя ладонями по вискам, яростно пытаясь выбить эту картину из головы.
Я не мог позволить себе таких мыслей. Они отвлекали меня и туманили мне разум. Отчаяние могло только привести к провалу; если я хочу добиться успеха, я не должен оставлять надежды. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа [111]. Также мне потребуются путы, чтобы связать тюремщика, и я нашел их среди своей одежды. Поясом я свяжу ему руки, а чулками — ноги. Примочкой я заткну ему рот, как кляпом. Но как мне удастся проделать столь сложную операцию, одновременно держа нож у его горла?
Конечно, если убить его, то задача облегчается. Поразмыслив над этой идеей, я отбросил ее как варварскую. Кроме того, мне пришла мысль, что связывать его не придется вовсе: я могу взять его с собой. Я могу запереть его в сундуке, где Пьер Жюльен держит книги, или потом попросить Иоанну связать ему руки. Он сможет послужить нам щитом, если мы случайно столкнемся с дозором.
За такими мыслями я коротал долгий одинокий вечер. Когда колокола зазвонили к повечерию, я прочел всю службу наилучшим образом. Затем я лег в постель, зная, что с ударом к заутрене, хоть и тихим, я поднимусь, как привык за многие годы. От заутрени до часов я буду готовиться, ибо ворота в Лазе открывались на рассвете, одновременно с концом первого часа. Следовательно, когда колокол возвестит первый час, я приведу свой план в действие.
Таковы были мои намерения. Но, как выяснилось, я был не в состоянии заснуть между повечерием и заутреней; я лежал весь в поту, как будто промчался бегом от Лазе до Каркассона. (Воистину, «со страхом и трепетом совершайте свое спасение»!) Вскоре я понял, что не будет мне покоя, пока Иоанна заключена в тюрьме, и я предавался молитве, пока измученный дух мой не начал утешаться словами Священного писания. Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться [112]? Многие лица прошли предо мной в ту ночь; многие печальные и радостные воспоминания занимали мои мысли. Я видел, что моя жизнь, в некотором смысле, закончилась. Я мог только надеяться, что впереди меня ожидает новая жизнь.
Святого Доминика я молил о прощении. Господа Бога нашего я молил о прощении. Мой обет был попран. Я был изгнан. И все-таки казалось, что у меня не было выбора; любовь несла меня как ветры небесные. Как, вопрошал я, это могло случиться? Я всегда считал себя сдержанным, умеренным, разумным; человеком не без наклонности к гордыне и гневу, конечно, но и не подвластным безумным страстям. Как я мог презреть путь разума — отвергнуть мою собственную природу?
Получалось, что из-за любви. Ибо любовь сильна как смерть, и если кто отдаст имущество дома своего за любовь, то она одна в том повинна.
Размышления такого рода не помогали рассеять тьму вокруг меня. Но в продолжение ночи я забыл о своем страхе, я утешился и даже стал нетерпелив. Я жаждал действия. Я хотел кинуть жребий и посмотреть, как он падет. Услыхав колокол к заутрене, я снова прочитал всю службу (шепотом), пропуская только те действия, что сопровождают слова. Затем, вслепую нащупав хлеб, который мне принесли ранее, я съел его.
Что мне сказать о том последнем, самом темном и долгом периоде ожидания? Я слышал крыс и далекий плач. Я чувствовал нож у себя под рукой. Я видел легчайшие пылинки света, проникавшие под дверь и сквозь замочную скважину, от лампы, стоявшей в коридоре.
Я ощущал себя совершенно покинутым.
Иногда мне начинало казаться, что ночь никогда не кончится. Я спрашивал себя: а не светает ли? Не настал ли рассвет? Я, наверное, задремал ненадолго, ибо мне привиделось, как будто Иоанна вошла в комнату, легла ко мне в постель и ласкает мою тонзуру. Я, разумеется, решил: «Этого не может быть», и проснулся, как от толчка, в ужасе, что я проспал колокол к первому часу. Но Господь, по милости Его, охранил меня от подобной злой судьбы. Только я сел, с тяжко бьющимся сердцем, как услышал тихий звон и понял, что это значит.
Время настало. На Тебя, Господи, уповаю, молился я, избави меня от руки притеснителя, по правде Твоей избави меня и освободи меня!
Я сунул палец в горло, и меня вырвало на пол. Затем я снова лег, прижимая к груди нож, и натянул одеяло до подбородка. Сначала, когда я позвал в первый раз, мой голос был похож на скрип, я запищал, как крысы, шнырявшие из угла в угол по караульной. Однако, прочистив горло, я смог извлечь больше воздуха из легких, и мои призывы зазвучали громче. Более настойчиво. Повелительно.
— Понс! — кричал я. — Понс, помогите мне!
Ни шороха в ответ, хотя эхо моих криков в тишине грохотало как гром.
— Понс! Мне дурно! Понс, пожалуйста!
А что, если дозор услышит меня прежде Понса? Такая возможность до сих пор не приходила мне в голову.
— Понс! Понс!
А что, если он не захочет прийти? Что, если я обречен лежать здесь, в зловонии своей рвоты, до рассвета или еще дольше?
— Помогите, Понс! Мне дурно!
Наконец, ворчание и шаркающие шаги возвестили приближение тюремщика. Их сопровождал голос жалобно хнычущей женщины.
Его жена шла вместе с ним.
— Что такое? — зарычал он, гремя ключом в замке. — Что стряслось?
Я молчал. Дверь со скрипом отворилась, и на пороге возникли две фигуры, черные на фоне освещенного лампой коридора. Одна из них — тюремщик — помахала рукой у лица.
— Фу! — сказал он. — Ну и вонь!
— Он тут напакостил?
— Отец Бернар, что случилось?
Напрягаясь, я пробормотал нечто неразборчивое и застонал. Тюремщик приблизился.
— Он сам может за собой убрать! — раздраженно заметила женщина, но ее муж велел ей помалкивать. Он ступал опасливо, пытаясь не наступить в лужу рвоты, неразличимую при плохом свете. Подойдя к кровати, он наклонился и заглянул мне в лицо.