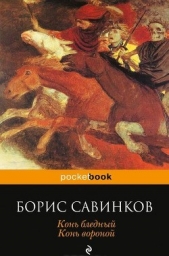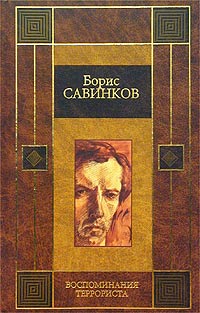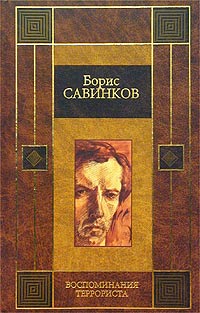То, чего не было (с приложениями)

То, чего не было (с приложениями) читать книгу онлайн
Роман «То, чего не было» В. Ропшина, принадлежащий перу одного из лидеров партии эсеров, организатору многих террористических актов Борису Савинкову (1879–1925), посвящен революционным событиям 1905–1907 гг. В однотомник включены (раздел «Приложение») воспоминания матери Б. Савинкова С. А. Савинковой (1855-7) «Годы Скорби» и «На волос от казни», а также статья Г. В. Плеханов«(1856–1918) „О том, что есть в романе «То, чего не было“.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дело о нем велось административным порядком, ни на какой суд надеяться было нечего, а что придумает для него охрана и жандармы, того и надо было ждать.
Мое предложение сыну поездки на Урал было им встречено с радостью. Он горячо ухватился за эту идею. Мы послали просьбу о разрешении. Я сильно надеялась, что не откажут, так как Урал – та же Сибирь. Ответа ждали нетерпеливо. Но прошло много времени прежде его получения.
За это время младший сын мой, отсидев пять месяцев в крепости и четыре в Доме предварительного заключения, был до окончания приговора административно выслан на житье в Вологду и получил разрешение приехать на три дня, проститься с родителями. Он тоже очень изменился, похудел, побледнел и стал гораздо нервнее. Но он был крепче старшего, и возможность жить с семьей сильно поддержала его. Старался он подбодрить и нас с мужем, уверяя, что ожидал худшего.
Наконец пришло разрешение и старшему отправиться до окончательного приговора на уральские заводы. Мысль, что он будет работать, а стало быть, будет и полезен, совершенно воскресила его, и он пылко стал собираться в дорогу: накупил книг, приобрел скрипку и, сопровождаемый горячими пожеланиями родных и друзей, радостный и оживленный, уехал, пообещав прислать из Москвы телеграмму. Как ни тяжела была для нас с мужем разлука с ним, но, видя его бодрое настроение, мы уже не смели печалиться и старались ждать известий от него. Однако их не было. Прошло уже несколько дней, – а ни телеграммы, ни письма. По нашим расчетам он давно уже должен был выехать из Москвы, почему же он молчал? Мы подождали еще – то же зловещее молчание. Тогда мы запросили друзей наших в Москве телеграммой, проехал ли сын наш и что с ним?
И каков же был наш ужас, наше отчаяние, когда в ответ мы получили сообщение, что сын в Москве, но немедленно по прибытии арестован и опять заключен в тюрьму!
Это было невероятно! За что арестован? Девять месяцев прожил он с нами, почти не выходя из дому, видя только ближайших друзей наших. В его действиях не было решительно ничего подозрительного, а мы знали каждый его шаг… Голова шла кругом от предположений! Мы вспоминали, с какой верой, с какой радостью он уезжал!.. Негодование душило нас… Но медлить было нельзя, надо было так или иначе помочь ему: при его нервности опять тюрьма могла совсем погубить его.
Наладив кое-как домашние дела и поручив убитого горем мужа друзьям, я выехала в Москву.
Я приехала в нее вечером. Но отчаяние мое было так велико, что я не в состоянии была ждать утра и решилась действовать немедленно.
Тогдашний прокурор судебной палаты Клуген был мне знаков издавна… Поэтому, переодевшись с дороги, несмотря на девятый час вечера, я отправилась к нему на квартиру и через дежурного внизу курьера передала свою карточку. Меня тотчас же попросили наверх, и прокурор весело и любезно вышел ко мне навстречу.
Он встретил меня как старую знакомую и, несмотря на отсутствие жены, просил непременно остаться. Посыпались обычные вопросы: «Давно ли приехала? Как здоровье мужа? Что дети?» Пока он меня усаживал, я молчала, меня душили слезы. Он взглянул на меня пристальнее и ужаснулся: «Что с вами? Ради бога, что с вами?»
Но когда я объяснила, зачем приехала, когда он узнал о том, что сын мой политический заключенный, лицо его изменилось, тон стал суше, и в конце концов он перешел на совершенно официальную почву и объяснил, что об аресте сына ему ничего не известно и что сделать что-либо он для меня не может, так как это – дело жандармского управления…
Я не скажу, что этот прокурор был дурным человеком… Нет, он был просто чиновник! Пока он думал, что я приехала к нему, как светская знакомая, у него нашлись для меня и улыбки и приветы. Но, как мать политического заключенного, я являлась для него личностью, неудобной для знакомства. Мундир чиновника – это совсем особенная, тесная оболочка, под которой сердце принимает минимальные размеры. И не раз потом мне пришлось видеть такие метаморфозы среди добрых знакомых чиновничьего круга.
К тому же то были времена Плеве. Мягкосердие для чиновника было преступлением! Тем не менее прокурор «сделал, что мог»: он вынул свою визитную карточку и, сделав на ней надпись, посоветовал отправиться с ней к начальнику жандармского управления, который мог мне объяснить, за что сын арестован, и мог разрешить свидание.
Я была рада и этому. Провожая меня совсем иначе, чем встретил, прокурор заявил мне, что если б случилась в нем надобность, то он принимает в судебной палате в такой-то день и в такой-то час. Я, конечно, поняла: личное наше знакомство, как несоответственное, прекращалось…
Я не спала всю ночь.
В десять часов утра я уже входила по лестнице московского жандармского управления. Я ли не была знакома с обычаями и приемами жандармов? Мало ли я перенесла унижений, суровых отказов и полного равнодушия к своему горю? Казалось, что бы могло меня удивить? И тем не менее порядки московских жандармов, их бессердечие, их глумление над человеческими страданиями оказались таковы, что, по сравнению с ними, петербургские жандармы стали казаться мне прямо-таки ангелами, а петербургские порядки – идеалом снисхождения и мягкости. До сих пор без содрогания не могу вспомнить того, что пережила я в Москве за время заключения сына.
Прежде всего поражало то, что в управлении не было для просителей отдельной приемной. Посетители толклись в маленькой, полутемной прихожей вместе с жандармскими унтер-офицерами. Тут приходилось проводить положительно часы в ожидании, пока выйдет нужный офицер. А во время этого томительного ожидания из соседних комнат, где находились господа офицеры, доносился голос ожидаемого, рассказывавшего о вчерашнем времяпрепровождении очень неторопливо. Иногда ожидаемый офицер, с папиросой в зубах, проходил из одной комнаты в другую через переднюю, мимо ожидавшего просителя, и, скользнув по нему взглядом и нагло усмехнувшись, скрывался за дверью. Господа офицеры, видимо, наслаждались возможностью мучить и терзать людей. Если случалось, сунув унтеру в руку полтинник, упросить его напомнить офицеру, что ждешь его больше часу, в ответ из соседней комнаты раздавался намеренно громкий возглас: «пусть ждет!» – и одобрительный смех товарищей.
Иногда, после томительного ожидания, приходилось увидеть нужного офицера, входящего в переднюю, быстро надевающего пальто и хлопающего дверью, после чего подходил унтер-офицер и твердо говорил:
– Поручик ушли – пожалуйте завтра!
А завтра приходилось ждать опять. Избежать это учреждение не было никакой возможности: все передачи денег, вещей, книг, писем, все разрешения свиданий, то есть решительно все, относящееся к заключенным, надо было делать через жандармское управление. Оно было неизбежно!
В первое же посещение этого учреждения я наткнулась на очень тяжелую сцену: по передней, из угла в угол, ходила не молодая, хорошо одетая женщина. Я никогда не забуду того выражения скорби, которое читалось в ее больших глазах. Она не плакала, но, по мере того как проходило время, лицо ее становилось все бледнее.
Наконец вошел ротмистр и, не глядя на нее, сунул в руку унтер-офицера какую-то бумагу.
– Передай, – он назвал фамилию (без прибавления госпоже), – что ей в свидании отказано! – Очевидно, это касалось этой несчастной дамы, потому что она остановилась как вкопанная.
– Как! опять отказано? – закричала она. – Господин ротмистр! Именем бога!
– Нельзя-с, – злорадно усмехаясь, ответил ротмистр и с торжествующим видом ушел в соседнюю комнату.
– Так будьте же вы прокляты, все прокляты, прокляты! – во весь голос закричала посетительница. Из всех дверей появились офицерские фигуры.
– Это что? Это что такое? – слышалось со всех сторон.
– Да, прокляты, прокляты, прокляты! – в исступлении кричала женщина, доведенная до потери рассудка. – Берите меня, арестуйте, наденьте кандалы, но не разлучайте с ним! Я должна быть с ним… Я должна его видеть… Слышите, проклятые? Пустите меня к нему! Куда вы его запрятали? Где он? О, если бы нож, я бы убила вас, проклятые! – Она металась как исступленная, но в крике было нечто до того хватавшее за сердце, было такое нечеловеческое страдание, что даже жандармы не решились ее схватить и арестовать, а ограничились тем, что попрятались кто куда и только из-за двери послышался голос: