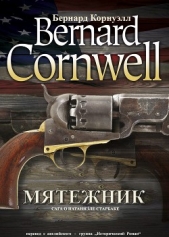Мисс Равенел уходит к северянам
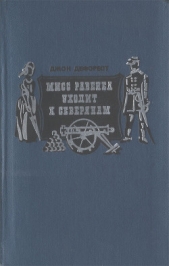
Мисс Равенел уходит к северянам читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Суини, — задирает его сосед, — ты должен храбрее сражаться. Все видели, как ты утром съел полтора пайка.
— Сколько дали, столько и съел, — отвечает Суини, возмущенный нежданным поклепом. — А ты отказался бы?
— Уж больно ты шустрый, Суини. Когда свистели снаряды, ты был посмирнее.
Суини пытается ловким маневром так повернуть разговор, чтобы насмешки достались другому.
— Кто был хорош в бою, это Микки Эммет — заявляет Суини. — Скрючился весь, как мартышка в седле, и такую прескверную рожу скорчил, что рядом цветочек завял. Ты славно покланялся этим снарядам, Микки.
Микки. Тут будь деревянным и то станешь кланяться. А Суини будто не кланялся?! Мотался взад и вперед, как сухая горошина на сковородке.
Суини. А для чего, скажи, мне ноги даны?
Сэлливен. Как, ты все еще дышишь, Суини? (Очень частая у наших ирландцев острота, которую я не вполне понимаю.)
Суини. Будь я твоим отцом, уже не дышал бы. Лучше в могиле лежать, чем мучиться с пьяницей-сыном.
Сэлливен. А ты приметил, Суини, кривого мятежника? Это он на тебя раз взглянул — и глаза лишился.
Суини. Ему дьявольски повезло, что он нас вдвоем не увидел.
Американец. Ирландцы, хватит вопить. Дайте поспать человеку. Точно коты на крыше!
Сэлливен. Заткнись! Эх, набрать бы чисто ирландскую роту. Капитан был бы рад.
Тохи. Экий холод, ребята! Все равно не заснешь. Ни тебе одеяла, ни бабы под боком.
Суини. Если кто станет меня другой раз вербовать в армию, я ему башку оторву.
Сэлливен. Ростом не вышел, Суини. До башки не дотянешься.
Суини. А я ему дам подножку и сравняюсь с ним в росте.
И так они зубоскалят до двух часов ночи, когда я наконец начинаю дремать».
Приблудная собачонка — тоже событие в монотонной, как пустыня Сахара, походной жизни.
«Вот единственное, о чем я могу вам сообщить, — пишет Колберн. — Ко мне заявился бесхвостый песик и самовольно объявил себя членом моей семьи. Его благосклонность объясняется, видимо, тем, что у него нет другого выбора. Стоит теперь мне оставить палатку на минуту открытой, и я нахожу его всякий раз у себя под койкой. Поскольку вилять ему нечем, он выражает свою любовь ко мне другими доступными средствами. Например, заслышав мой голос, тотчас ложится вверх брюхом и глядит на меня с непередаваемой кротостью. По своей совершенной бесхвостости он не имеет равных. Хвост у него ампутирован до основания. Я удивлен, что он еще жив после такой операции. Но по какой-то, как видно, таинственной связи хвостовых и голосовых связок бедняга лишился голоса. Он не лает, не тявкает и не рычит. Я часто гадаю, при каких обстоятельствах он мог, потерять свой хвост? Отстрелили, быть может, в сражении, или кто откусил, или кто оторвал, или песик бежал с такой прытью, что хвост не поспел за ним, отстал, заблудился? И, возможно, теперь этот хвост зажил сам по себе, не нуждаясь в своем хозяине; состоит где-нибудь на действительной службе, обучает других вилянию или даже повышен в звании и назначен львиным хвостом? Или вознесся на небо в собачий рай и там, может статься, виляет в ангельском чине? Да позволено будет сострить: я нахожу, что для армейской собаки вполне натурально, если ее авангард оторвался от тыла. В случае если объявится хозяин этой собаки, я скажу ему так: «Сударь, берите немедленно вашего пса. Он мне задаром не нужен, и я ему, кажется, тоже». Но пока что бесхвостый пес здесь. Я не могу избавиться также от Генри, а польза от них обоих примерно одна и та же. Иногда я гадаю: какова будет в общем и целом потеря для человечества, если бесхитростный песик и Генри оба исчезнут совсем с нашей планеты? Исчислить эту потерю я не берусь, поскольку не изучал бесконечно малые числа».
«А вообще говоря, — заключает Колберн, — мы здесь умираем от скуки. Охота запрещена, потому что случайные выстрелы могут дать повод к ложной тревоге. Однажды я тут подстрелил аллигатора; мы проводили учения в четырех милях от лагеря, остались без провианта и целые сутки питались крокодилятиной. Есть можно, но — прямо скажу — блюдо не для гурманов: сильный мускусный запах и мясо прежесткое — не прожуешь, как будто он проторчал в своей шкуре не менее тысячи лет. Кстати, замечу, что пуля «минье» отлично его дырявит. Ни псовой охоты, ни скачек с препятствиями, ни бокса, ни состязаний в борьбе или в гребле, всего, что так принято у офицеров английской армии, у нас, как вы знаете, нет. Редко-редко когда удается устроить конные состязания, а чаще всего мы просто режемся в юкр. Шагистика не развлекает, как было когда-то, и стала тоскливой обузой. Разговоры по большей части пустые и скучные; разве только завяжется спор на военную тему или еще вдруг найдется какой шутник. С местными жителями мы не встречаемся; я уже целую вечность не беседовал с дамой. Книг нигде нет, а таскать их с собой невозможно — в офицерский мешок еле влезает самое нужное. И если уж быть откровенным, не тянет читать да и думать не хочется, разве лишь на сугубо военные темы. Собратья мои офицеры — толковые, храбрые и, в общем, разумные люди, но кафедры в Уинслоуском университете им не занять. Они из народа, но ведь и война ведется в интересах народа и против аристократов. Когда я впервые привел свою роту в полковой лагерь, — а было тогда у меня всего восемнадцать бойцов, — они сразу приметили во мне барчука и называли меня и моих солдат не иначе, как «десять тысяч господ». Сейчас эти мелочи позабыты, и первый в бригаде тот, кто крепок на марше, славно дерется и браво командует. В армии штатские доблести недействительны, ими некому здесь восхищаться. Вас уважают за офицерское звание и за боевые заслуги; все остальное не в счет».
С истинно воинской гордостью Колберн снова и снова восхваляет свой полк:
«Дисциплина у нас в Десятом отличная, — пишет он, — не бунтуют, не дезертируют, даже мало ворчат. Если спросить солдата, доволен ли он своей службой, возможно, он скажет вам «нет», но судить о его настроении по этим словам не всегда будет правильно. Важно сперва узнать, как он несет службу. Какой-нибудь старый ворчун-матрос постоянно бубнит в кубрике, но при деле, на палубе, ест глазами начальство, всегда на посту, выполняет свой долг. Так и наши солдаты: послушать их — все недовольны, но ни один не бежит из полка, и очень редко кто просится в тыл по состоянию здоровья».
Надо заметить, что Колберн писал это до введения «замены за рекрута» [129] (до того, как «охотники» стали хватать премию и с ней дезертировать); когда армия в основном состояла из прямых, благородных людей, добровольцев первых двух лет этой великой воины.
Из всего, что я знаю о Колберне, я заключаю, что он был у себя в Десятом полку образцовым служакой (насколько это вообще доступно для волонтера). В роте его побаивались, он был суховат в обращении и строг; в то же время солдаты любили его за отвагу и за то, что их капитан добровольно с ними делил и страду, и опасности боя. С тем же почтением, какого он требовал от рядового, Колберн и сам обращался к старшему офицеру, даже если то был проходимец Газауэй. Он так поступал из принципа, в интересах воинской службы, понимая, сколь важно это для поддержания дисциплины в полку. Кстати сказать, майор Газауэй недолюбливал Колберна и предпочел бы ему разбитного и хамоватого «свойского парня», — с таким ему было бы проще. А этот отлично воспитанный, изысканно вежливый капитан заставлял майора поеживаться. Хоть склонный к резким оценкам Ван Зандт и называл Газауэя «тупой дубиной», у того вполне хватало смекалки понять, что исправно козыряющий ему капитан в душе презирает его. Откровенно о Газауэе Колберн писал лишь такому близкому другу, как Равенел.
«Это — нахальный, зазнавшийся, толстокожий осел, — так пишет Колберн, — и, конечно, его мутит от каждого сколько-нибудь воспитанного, образованного человека. Отдает, например, самовольный, противный уставу приказ и приходит в ярость, когда ему разъясняют, что приказ незаконен. Он меня невзлюбил как раз после этого случая, и еще, должно быть, за то, что я пишу без ошибок. Его циркуляры, приказы и прочее — монументы безграмотности, если их не успеет исправить простой солдат — его писарь. Мне просто невмоготу подчиняться подобным личностям, и после победы, поверьте, я не останусь в армии лишнего часу».