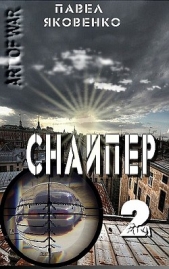Харбинские мотыльки
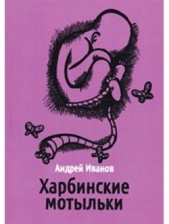
Харбинские мотыльки читать книгу онлайн
Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это вы очень правильно сделали, — сказал художник, — я бы не хотел ни с кем видеться, пока все не утрясется.
— Естественно. Поэтому, если вы почувствуете, что сможете что-нибудь сообщить по поводу Тимофея, напишите или расскажите мне, а я передам, вместе с этими записками, ваш ответ моему коллеге. Для него это очень важно. Случай уникальный, просто из ряда вон выходящий.
— Да, я вижу. Пятнадцать тел…
— Да, и среди них тело вашего Каблукова.
— Вот так… все-таки…
— Да. Ваше мнение будет иметь значение. Можете описать их отношения.
— Каблукова и Тимофея?
— Да. Вы сказали, он себя винил в том, что тот глаза лишился.
— Да, и это их сильно повязало.
— Вот и напишите. Время у вас есть, тут тихо, спокойно. Вы знали Тимофея, и не один год, потому, наверное, есть что вспомнить.
— Я с удовольствием почитаю, посмотрю. Если что-нибудь вспомню, напишу.
— Вот и замечательно. Да, и насчет нашего разговора…
— Я думаю, — сказал Борис. — Об этом я думаю.
— Ну, думайте, думайте…
В записках Тимофея был хаос. Именно этого и не хватало сейчас: какого-нибудь безумства, в которое можно было бы уйти с головой и не подходить к проклятому календарю. В этом доме все ходят на цыпочках, все блестит, вещи не гремят, даже когда их роняют, они тихо падают, будто завернуты в марлю или сделаны из бумаги. В такой обстановке невозможно нормально существовать, делаешься фарфоровым.
Борис перебирал записки, раскладывал писульки перед собой на распахнутой газете, сортировал… Прочитал одну и залюбовался, как однажды в детстве, в Петербурге, открыл рот и не мог отвести глаз от старого генерала, который в исступлении стучал палкой по скамейке и требовал подать ему какую-то фрейлину, — отец потом сказал, что это неприлично — так стоять и смотреть на старого человека. Генерал был сумасшедший, и был он одет очень грязно, слюна на бороде, остатки пищи на старой шинели. От него сильно воняло мочой и перегаром. В записках Тимофея каждое слово было сумасшедшим, оно было вывернуто, как уродливое дерево, горело безумием и стучало палкой. Ребров будто не читал, а вслушивался в стук, который доносился сквозь толстые стены. Он читал и вспоминал тех сумасшедших, что смотрели из окон клиники напротив дома, в котором жила Мила, и думал: «Вот где он теперь, должно быть… Где еще, как не там? Уж лучше там… А может, и мне туда попробовать устроиться?.. Нет, глупости…»
Читая записки Тимофея, Борис долго не мог выстроить хронологический порядок. Наконец, решил точкой отсчета взять вырезку из газеты, в которой сообщалось об аресте Ивана. Первые записи, по-видимому, были сделаны в период, когда он был под стражей.
Решением директора полицейского управления вынесено наказание проживающему в Тарту лицу без гражданства Ивану Петровичу Каблукову в виде штрафа размером 200 крон, в случае неуплаты штрафа наказание заменяется арестом в 30 суток. Наказание последовало вследствие того, что И.П. Каблуков распространял наносившую ущерб нашим внешним сношениям русскоязычную фашистскую литературу, пропагандировал принципы всероссийской фашистской партии, в своих писаниях и устных речах выражал намеренное неуважение к эстонскому народу и представителям эстонской власти.
Тимофей и Иван в те дни были полны отчаяния, не знали, как собрать денег для уплаты штрафа. Тимофей каждый день вел дневник состояния Ивана. Мерили температуру, пили зверобой, заваривали пустырник с цикорием, сушили сухари, шили носки и стельки. Коротко говоря — собирали Ивана в тюрьму.
Что я такое без борьбы? Без борьбы я пустое место. Борьба для России — все мое существо! Тимофей писал письма во все концы (Ребров вспомнил, что и сам получал письмо, но не ответил). Во всем лояльный эстонской власти человек! Борьба моя была только против большевиков! Тимофей писал Алексею; тот отвечал, что очередная Интернациональная Ассамблея Академии Христианских Социологов собрала почти всех ассоциированных членов, включая тех, кто проживали во Франции и Америке, среди выступивших Т.С. Элиот, М. Рекитт, Доусон, я, Франк, славист, о котором я тебе рассказывал и др. (см. приложение). К сожалению, Бердяев так и не приехал, ждали, его ждали, а он, как оказалось, думал, думал — и в первую очередь «к сожалению» для него, упрекал и упрекаю его за это: он упускает прекрасную возможность поддержать великое начинание общемирового значения. Тимофей еще раз написал Алексею, написал митрополиту Александру, Николаю Печерскому, восемнадцати священникам, трем пасторам, настоятелям различных монастырей, всех просил заступиться за Ивана. Просил, если можно, написать лично на имя главы государства, чтобы, если можно, ослабили тюремный режим и еще, если можно, чтобы не высылали из Юрьева, конечно, если это возможно.
Был приписан адрес главы государства: Harra K. Patsile, Eesti Vabariigi Riigivanemale, Toompea loss [86]…
Пометка:
Напомнить Родзаевскому сходить в Министерство иностранных дел в Маньчжурии и попросить, чтоб их министерство вошло в сношение с нашим и разъяснило, что литература ВФП не пропагандистского характера, а разоблачительного (писать на фр. или англ.).
Пытались с Иваном устроиться на работу. Ивану, как нансенисту, без специального разрешения не позволили работать даже на прежней работе. Три раза в неделю можно, постоянно — нет. Пошли подавать прошение: стоит немало, рассматривают от 3 до 4 месяцев. (В кредите мне отказано. В ломбард нести нечего.)
Вера Аркадьевна не пустила Ивана на порог. Меня, сказала, пустит, его — нет. Я вошел; он развернулся и ушел (представляю, что он чувствовал). Мои переговоры с Верой Аркадьевной закончились ничем: «Для твоего Ивана ничего — ни пальцем не пошевелю! Пусть живет, как хочет! Тебе помогу, ему — нет!»
Тимофей ходил по людям, собирал деньги и тщательно документировал:
Добротолюбовы — 5 крон
Черепанов — 2 кроны
Симова -10 крон
Варенька -10 крон
(ниже прилагался список из 38 имен тех, кто отказали)
Получили:
50 лир из Рима
3 франка прислал Вершков
Дубин -1 франк
Алексей — 2 фунта
Мама, у меня все хорошо, мы живем во дворце; у меня здесь много друзей. Веселая компания. По вечерам мы танцуем. Устраиваем бал. Сегодня мы все вышли со свечами в руках, чтобы пройтись по всем коридорам, и вместе с нами тени плыли, и музыка играла, настоящий оркестр. Переливы и кружева. Мы пробежали по колоннаде и вышли на дебаркадер. Палили из пушек. Над морем было красное зарево от фейерверка! В честь Ивана и всех наших. Так было нужно. Это было всем нам так нужно. Уйти и поселиться на этом хуторе. К нам примкнул Никанор Колегаев и его группа анархистов. Вместе решили строить колонию. Хуторянин пил каждый день, капитан Солодов выходил на баркасе со спиртом в море. Ходили на луг, где рос чей-то горох, собирали. На барже жил мужик, который подавал предупреждающие сигналы. В ту весну ледоход смял несколько деревень. Люди остались без крова. Много животных убило. Погибли и люди. Они шли за гружеными телегами. Над ними летало воронье. Все предвещало бедствие. Вода шла за ними. Мы им предоставили кров. Никанор отчаянно работал и всем помогал. Возвели овин, разожгли костер в ямнике, сварили большой котел горохового супу. В хлеву с собаками поселилась семья одного учителя. Набились. Никанор и его люди строят новый дом, чтоб поместились все — и скотина, и птица. Получили письмо от Алексея. Наше дело встало. Мост обрушился. Против нас заговор. Но мы продолжаем борьбу. Эти выстрелы, — слышишь, мама, — это палят в нашу честь!
Рядом было вклеено письмо.
Владыке Митрополиту от 13/IX-1924, Тарту.
Я, Алексей Петрович Каблуков, будучи политическим беженцем-эмигрантом, прожив свыше 5 лет в Эстонии, все это время употребил на изучение истории Православия, исихазма, монашества и русской революции. Поелику можно, подвизался посвятить себя борьбе с большевизмом, а также служению Христианству во имя России и будущности Богочеловечества. Родился я в 1899 г. в Петербурге, в семье, принадлежавшей к высшему коммерческому кругу столицы. Мой отец, Петр Григорьевич Каблуков, был совладельцем крупного торгового дома «Товарищество Архангельского». Моя мать, глубоко верующая женщина, происходила из старинного купеческого рода. Воспитание получил под руководством немецкого гувернера, Петербургское Реальное училище, Санкт-Петербургский университет (юридический факультет). Не окончил. Был мобилизован большевиками, перешел к белым. Был послушником в Псково-Печерском монастыре, где познакомился с незаконнорожденным сыном немецкого барона, который в Эстонии основал завод по изготовлению моторов и много изобретал сам. Его зовут Вольфрам. Он спит без одеяла и не носит носков, даже когда спит, Вольфрам старается ноги держать на полу, чтоб постоянно чувствовать под собой почву. Это связано с тем, что он испытывал летательные машины, которые изобретал его отец. Вольфрам очень высокий и худой. Ему лет тридцать, но он утверждает, что ему уже 157 лет и его отцу был 231 год на тот момент, когда он прибыл в Эстонию, дабы вести борьбу с русскими, которые захватили Эстонию. Вольфрам плетет из ниточек себе паутинку, и перед тем как лечь спать, он натягивает паутинку на окошечко и, лежа в постели, подставляет свое лицо так, чтобы тени паутинки легли на лицо, потому что — говорит Вольфрам — это единственный способ, как предотвратить проникновение во время сна в голову пиявок. Я попросил его побольше рассказать о пиявках, и он сказал, что этих пиявок практически невозможно увидеть, потому что они умело маскируются под людей, если ты их заметил, или принимают облик тобою поду-манного, если ты поймал себя на том, что мысль кажется тебе чужой. У него очень красивая ложка, мама! Такими ложками кушали бароны, когда выплывали на воздушных шарах на свои воздухоплавательные прогулки над окрестностями Тарту. Они такими ложками кушали яичко, посматривая сверху, эстонские мужики снимали шапки, кланялись и в колокола звонили затем, чтоб отогнать ворон, дабы шар не врезался в стаю или не зацепился в тумане за церковь.
Стихи, стихи… коридоры в этом дворце сводчатые, окна огромные, двери тяжелые…
Кажется, письмо наше к Родзаевскому было перехвачено, ибо нам продолжают присылать на старый адрес, откуда нас выгнали за неуплату, и хозяин приходил злой, потому что там после нас оставалось много беспорядку, и жаловался на каких-то насекомых, которых мы якобы развели. Пытаемся получить официальное разрешение на то, чтобы вести работу дальше. Иван сейчас в комнатке библиотеки Веры Аркадьевны, все время лежит, и я каждый день хожу топить и кормлю его. Приходит д-р Фогель. Он говорит, что тут необходимо одно: средиземноморский воздух, вот что! Обратились в Министерство социального обеспечения, дабы поместить его в клинику бесплатно. Его поместили в отдел для нервных, т. к. сочли, что это болезнь на нервной почве, потом перенаправили в чахоточную. Вера Аркадьевна и д-р выбили для него комнатку. Только встал, как опять слег. Обеспокоенный новой харбинской посылкой, Иван ездил в Ревель, заодно похлопотать о своем подданстве и скандал унять, который случился из-за того, что он назвал Слепцова провокатором. Кажется, у нас назревает раскол. В Ревеле Иван провел трое суток, спал на скамейке в парке, днем все время бегом, то в очереди за документами, то в поисках работы, сапоги у него худые, пальтишко легкое, головного убора совсем нет, случился дождь с градом, подмок и вот опять слег, лежит, а на улице его Слепцов караулит с двумя своими пособниками. Может плохо кончиться. Иван все время с ножом. Мы думаем, как бы раздобыть огнестрельное оружие, или изготовить.
Было много стихов. И много хороших… Борис откладывал стихи… и читал дальше…
Эстонец, которому принадлежит хутор, лежит при смерти, за ним приглядывает девушка. У нее русые волосы. Солодов ее запирает с эстонцем, у него сильно вздулся живот, правый бок весь синий, и моча темная. Эстонка ни слова не понимает по-русски. Поет красиво. Поднялся лед, и мы с Никанором и его людьми отправились за картошкой. Собирали куски льда. Топили его, вынимали из кусков льда рыбу. Варили лед в чане на печи. Получался неплохой суп. Ничуть не хуже этого. Зубы у нас были лучше, чем тут. Могли многое есть. Съели лошадь. Эстонец начал блевать черным. Умер. Ивана положили на стол. Он дышал тяжело. В доме было холодно. С каждым часом становилось холодней. Подступали льды. Мы вошли в круг. Каждый возле своего знака. Взялись за руки. Солодов задул свечи. Упала тьма. Завыла собака.