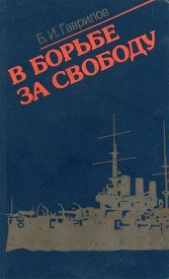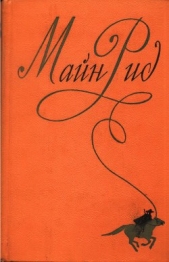Белый раб
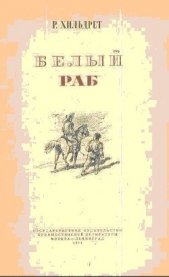
Белый раб читать книгу онлайн
В девятнадцатом столетии многие крупные американские писатели обратились к очень важной в то время теме — борьбе негров за свободу. Освободительное движение обогатило американскую литературу демократическими морально-философскими идеями, воплощёнными в произведениях Эмерсона, Торо, Уитьера, Бичер-Стоу, Лонгфелло, Майн Рида.
К этой группе писателей должен быть причислен и Ричард Хилдрет, автор романа «Белый раб» и монументального труда «История Соединённых Штатов», связавший свою литературную и общественную деятельность с аболиционизмом — широким демократическим движением за отмену рабства негров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нередко случалось, что меня звали в столовую, когда после выпитой мадеры настроение у всех уже было приподнятым, и заставляли прочесть какую-нибудь статью из газеты, чтобы развлечь моим чтением подвыпивших гостей.
Ко мне всё время приставали со всякими нелепыми и оскорбительными замечаниями, терзали и мучили насмешливыми и обидными вопросами, на которые я вынужден был отвечать, — я знал, что, если я не отвечу, мне в лицо может полететь бокал, бутылка или тарелка.
Особенно изощрялся мастер Уильям. Лишённый возможности избивать меня плетью, во всяком случае так часто, как ему бы этого хотелось, он вознаграждал себя тем, что избирал меня мишенью для самых грубых замечаний и насмешек. Он, между прочим, очень гордился придуманной им для меня кличкой «учёный негр», хотя, видит бог, лицо моё было вряд ли чернее, чем его собственное. А что касается души… мне хочется верить, что она была у меня белее.
Вы скажете, что всё это пустяки. Может быть, оно и так. И всё же я немало помучился, прежде чем приучил себя сносить эти унижения. Может быть, мне несколько помогало в этом то удовольствие, которое я испытывал, когда, стоя, как мне полагалось, за спинкой стула моего хозяина, я слушал разговоры сидевших за столом гостей. Я имею в виду их разговоры, пока они не начали ещё пить вино; обычно же каждая их встреча кончалась шумной попойкой.
Полковник Мур был человеком гостеприимным, и не проходило дня, чтобы за обедом у него не собирались друзья, родственники или соседи. Сам он был красноречивым и приятным собеседником; голос у него был тихий и вкрадчивый; говорил он всегда живо и остроумно. Многие из его гостей были людьми достаточно сведущими. Разговор обычно вертелся вокруг политики, но нередко переходил и на другие предметы. Полковник, как я уже сказал, был сам горячим демократом, или, выражаясь языком того времени, горячим республиканцем, ибо слово «демократ», с каким бы почтением к нему ни относились потом американцы, в те времена было чуть ли не бранным словом.
Большинство людей, бывавших в доме полковника Мура, в вопросах политики единодушно держались либеральных взглядов. Я с жадностью и с восторгом прислушивался к их разговорам. Когда они говорили о равенстве людей и негодующе протестовали против угнетения и тирании, я чувствовал, как сердце моё наполняется волнением, но не понимал, откуда оно. В то время я никак не думал, что всё, что я слышу, может относиться ко мне. Меня пленяла красота самих понятий — свобода и равенство. Я глубоко сочувствовал французским республиканцам, о которых здесь часто говорили. Я был преисполнен ненависти к деспотизму австрийцев и англичан, к Джону Адамсу [17] и его чудовищному закону; своё собственное положение я ещё не умел осмыслить. Ко всему, что я видел вокруг себя, я давно привык, и в моих глазах таков был незыблемый он природы. Будучи рождён рабом, я ещё не испытал и сотой доли страданий и унижений — непременной принадлежности рабства. Большим счастьем было для меня тогда общество моего юного хозяина, который видел во мне скорее товарища, чем раба. Благодаря его заступничеству, а также тому влиянию, которым пользовалась моя мать, по-прежнему остававшаяся любовницей полковника, со мной обращались много лучше, чем с остальными. Сравнивая своё положение с участью рабов, трудившихся на полях, я считал себя поистине счастливым и готов был забыть о тех невзгодах, которые иногда обрушивались на меня. А между тем они уже в ту пору могли дать мне почувствовать, какую горькую чашу приходится испить рабу. Но я был молод, и моя молодость и весёлый характер брали верх над этими мрачными предчувствиями.
В те годы я ещё не знал, что полковник Мур — мой отец. Этот джентльмен обязан был своей высокой репутацией главным образом тщательному соблюдению всех внешних форм и правил приличия, которые так часто заменяют собой нравственные качества. Некоторые из этих правил, которые господствуют в Америке, имеют важное значение. Считается, например, что нет никакого преступления в том, что господин будет отцом каждого несчастного ребёнка, появляющегося на свет в его владениях. Зато серьёзнейшим нарушением приличий, чуть ли не тяжёлым преступлением считается, если отец признает таких детей или даже просто чем-нибудь улучшит их положение. Непререкаемый обычай требует, чтобы он обращался с ними точно так же, как с другими невольниками. Если он погонит их на полевые работы или продаст с молотка и они достанутся тому, кто больше за них заплатит, ну так что же! Если же он осмелится проявить к ним хотя бы искорку отеческой нежности, он может быть уверен, что ему не будет пощады от всюду проникающей клеветы. Все его слабости и непростительные грехи будут извлечены на свет божий, злостно преувеличены и выставлены напоказ, как бы прогонят сквозь строй, и в представлении так называемых приличных людей имя его будет связываться с чем-то позорным, низким и отвратительным.
Полковник Мур был слишком умён для того, чтобы когда-нибудь поставить себя в такое ложное положение. Он вращался в самом лучшем обществе и, хотя и разделял демократические идеи в политике, в глубине души оставался всё же убеждённым аристократом. Нарушить хотя бы одно из правил, установленных в его кругу, казалось ему столь же ужасным, как для светской красавицы отделать платье бумажными кружевами, а для какого-нибудь теперешнего фата — пользоваться за столом железной вилкой. Поэтому никого не должно удивлять, что я очень долго не знал, что полковник Мур — мой отец: ведь в его власти было от меня это скрыть.
Однако если мне моё происхождение и было неизвестно, то для приятелей и гостей полковника оно не составляло тайны. Нужно сказать, что, помимо всего прочего, поразительное сходство, существовавшее между нами, не могло оставить на этот счёт никаких сомнении. Те же пресловутые правила приличия, которые не позволяли полковнику Муру питать ко мне родственные чувства, не позволяли его гостям развязать языки. Но после того как я узнал эту роковую тайну, в памяти моей сразу же всплыли злые шутки и странные намёки, которые к концу пиршества отпускали наиболее подвыпившие и уже не скрывавшие правды остряки. Все эти остроты, смысл которых был для меня всегда загадкой, вызывали, однако, неудовольствие как полковника Мура, так и более трезвых его гостей, я почти всегда вслед за этим следовало приказание мне и остальным рабам немедленно уйти из столовой. И долго ещё — вплоть до той поры, когда мне стала известна тайна моего рождения, — для меня оставался непонятным этот, казалось бы, ничем не вызванный гнев моего хозяина.
Тайну, которую отец не пожелал, а мать не посмела раскрыть мне, я легко мог узнать от моих товарищей. Но в те годы я, как и многие подобные мне слуги, гордился светлым цветом своей кожи и чуждался настоящих негров. Я старался держаться от них подальше и считал постыдным для себя поддерживать дружеские отношения с людьми, кожа которых была хотя бы немного темнее моей. Вот, оказывается, с какой готовностью рабы усваивают нелепейшие предрассудки своих угнетателей и сами таким путём добавляют новые звенья к цепям, которые не пускают их на свободу.
Надо отдать всё же справедливость моему отцу: я не думаю, чтобы он был вовсе лишён отцовских чувств ко мне. Я убеждён, что, хоть и не признавая открыто присвоенных мне природой прав на какую-то привязанность с его стороны, он всё же в тайниках своего сердца не мог не считать их законными. В голосе его звучали нотки снисходительности и доброжелательства; чувства эти и вообще-то были ему свойственны, но, когда он обращался ко мне, они становились ещё более заметными. Во всяком случае, это не могло не отразиться и на моих чувствах. И хотя я видел в полковнике только своего господина, я искренне его любил.
Глава четвёртая
Я был семнадцатилетним юношей, когда моя мать внезапно заболела лихорадкой — болезнью, оказавшейся для неё роковой. Она сразу же почувствовала, что её ждёт, и заблаговременно, пока ещё болезнь окончательно не сломила её сил, послала за мной. Я застал её в постели. Она попросила ухаживающую за ней женщину оставить нас, а потом подозвала меня к себе и велела сесть как можно ближе. Мать сказала, что жить ей остаётся уже недолго и она считает себя обязанной раскрыть мне одну тайну, которая, быть может, впоследствии будет иметь для меня значение. Я просил её не медлить с рассказом и стал нетерпеливо ждать. Она начала с того, что вкратце рассказала о своей жизни. Мать её была невольницей, отцом же её был некий полковник Рэндолф, отпрыск одной из самых знатных семей Виргинии. С детства её приучили выполнять обязанности горничной, а когда она подросла, её продали полковнику Муру, который подарил её своей жене. Мать моя в то время была совсем ещё девочкой. С годами красота её стала заметнее, и тогда хозяин удостоил молодую невольницу своим вниманием. Вскоре он поселил её в хорошеньком отдельном доме с потайными комнатами, имея в виду не только её удобства, но и свои собственные. Ей, правда, приходилось иногда немного заниматься шитьём, но так как никому не хотелось ссориться с любимицей хозяина, то и работой её особенно не обременяли и жилось ей спокойно. Но чувствовала она себя всё же глубоко несчастной.