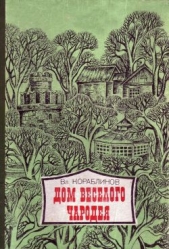Сатанинский смех
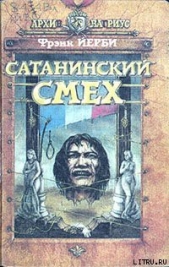
Сатанинский смех читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– О, младенец Иисус! – всхлипнул Жюльен. – Марен, Бога ради…
Жан тронул его за плечо.
– Простите, – сказал он. – Это было жестоко с моей стороны. Ваша жена ближайшая подруга моей жены. Я изо всех сил старался защитить ее и помочь ей. Когда-то я любил ее, это было задолго до того, как вы женились на ней. Сейчас же я испытываю к ней только одно чувство – жалость…
– Извините меня, – сказал Жюльен Ламон. – Я не знал…
– Теперь знаете. Хочу дать вам один совет, месье Ламон. Немедленно уезжайте из Парижа. Сейчас здесь жизнь аристократа не стоит и свечки.
– Я знал это, – прошептал Ламон, – и шел на этот риск. Но теперь я не могу уехать, не забрав с собой Николь.
– Это ваше дело, – пожал плечами Жан, – но, Бога ради, будьте осторожны. Если вам суждено быть гильотинированным, не тащите ее с собой. Мы очень любим Николь, моя жена и я…
– Спасибо, – сказал Жюльен Ламон и пожал протянутую Жаном руку.
После бессонной ночи ожидания, когда наконец рассвело, Жан отправился на квартиру Пьера. Дверь открыла Марианна, ее широкое лицо выражало презрение.
– Убирайся отсюда, Жан Марен! – выпалила она. – Она не хочет видеть тебя!
– Может, у тебя хватит воспитания, – сердито сказал он, – объяснить мне, почему?
– А ты не знаешь? И чего только иные женщины не делают, чтобы украсть чужого мужа! А бедная слепая ничего не видит. Знатное происхождение не укрепляет женскую мораль, так ведь, Жан Марен? Надеюсь, ты получил свое удовольствие, потому что оно стоило тебе жены!
С этими словами она захлопнула дверь перед его носом и задвинула засов. Не открыла она и на его бешеный стук.
– Бог ты мой! – вырвалось у него. – Мог ли кто-нибудь на всем белом свете когда-либо вообразить такое!
Он повернулся и пошел прочь от этого дома, передвигая ноги как очень уставший и очень старый человек.
16
Он знал, где найти Флоретту. Это было нетрудно. Портняжное предприятие, основанное ею, Марианной и Пьером, смогло выдержать бурю, вызванную абсурдными мерами эбертистов и монтаньяров, так что Флоретте не угрожала страшная перспектива вновь продавать цветы на улицах. Потребности ее были невелики и даже при том, что оборот фирмы осенью 1793 и зимой 1794 года сократился, ей на жизнь хватало. Жан сразу же понял, что она найдет убежище у дю Пэнов; не знал он другого: что никакие протесты с его стороны, никакие просьбы не растопят ее ледяную решимость.
“Это я ей дал, – с горечью думал он, – эту железную гордость. Иначе и не могло быть. Я из попрошайки превратил ее в женщину, нет, более того, в принцессу; и хотя это превращение погубило меня, все равно это прекрасно”.
В конце концов, когда он после пятой или шестой попытки увидеть Флоретту возвращался в свою одинокую квартиру, ему пришло в голову, что в этой ситуации есть своя положительная черта: когда у человека отбирают что-либо, он начинает это ценить. Теперь он с полной уверенностью знал, что любит Флоретту, что эта любовь не имеет ничего общего с жалостью или с желанием защитить ее, не связана с ее слепотой или еще с полудюжиной любых несообразностей. “Теперь она зрелая женщина, – думал он, – она справилась со своей слепотой, более того, она справляется с жизнью. Ибо, когда человек отказывается подчиняться, он самоутверждается в жизни, а Флоретта твердо отказывалась склоняться перед тем, что считала неправильным… Она храбрее меня. Она скорее отказалась бы от меня или умерла, чем произнесла бы слова клятвы перед присягнувшим новой власти священником. Думаю, она все еще меня любит, но скорее откажется от меня, чем согласится на осквернение нашей любви или смирится с существованием другой женщины… Я могу пойти к Николь и убедить ее рассказать Флоретте правду, но что толку? Флоретта поверит ей, полагаю, еще меньше, чем она верит мне. Это слишком трудно объяснить, даже Пьер не поверит, что я всю ночь ходил по улицам, потому что был в смятении и хотел побыть в одиночестве…”
Он горько рассмеялся, подумав о том, что небольшая ложь могла бы сослужить хорошую службу. Но в этой ситуации он не мог солгать; он слишком часто видел, как благородная цель оскверняется недостойными для ее достижения средствами. Он мог существовать, имея кое-какую ренту и припрятанную значительную часть денег, оставленных ему отцом, хотя воспользоваться этими деньгами он не мог, поскольку в ходу были новые монеты. Обменивать золотые монеты невозможно, потому что в мире, полном подозрительности, достаточно самого факта обладания золотом, чтобы осудить человека. Но Жан Марен готов был оберегать свой мирок и жить тихо, устранившись от всякой политики, пока не настанет день, когда он и другие люди его склада смогут выступить. Его жизнь во всех отношениях состояла теперь из ожидания…
Он даже привык к этому и испытывал некое мрачное удовлетворение от своего одиночества, зная, что в любой момент может покончить с ним, отправившись к Николь. То обстоятельство, что он не наносит ей такой визит, служило ему источником гордости. Когда не остается ничего больше, говорил он себе, человек выживает. Он скрашивал скуку своего ожидания, посещая ежедневные казни, ибо террор приобрел теперь невиданный размах. Казни ужасали его, но верх брала двойственность его натуры, а бесконечная череда смертей обладала некоей притягательной силой. Он говорил себе, что существует определенная связь между тем, каким был человек, и тем, как он умирает. Он убеждался, что только люди, обладающие честью, оказывались способны кончить жизнь достойно. Утром 10 ноября 1793 года Манон Ролан подтвердила ему это.
Она, гордая, невозмутимая, подошла к эшафоту, держа за руку старика Ламарка, трясущегося от страха, помогла ему сойти с двуколки, попросила дать ей перо и бумагу, чтобы записать некоторые странные мысли, пришедшие ей в голову, в чем ей отказали. Тогда она обратилась с еще одной просьбой: чтобы старика казнили первым, потому что вид ее крови обессилит его. Потом, все такая же гордая и прекрасная, поднялась по ступенькам; осужденная за какую-то чепуху по сфабрикованным обвинениям, она, будучи душой и сердцем казненных жирондистов, женой своего мужа, глянула на уродливое, осыпающееся гипсовое чудовище, названное ими Свободой, и сказала ясным громким голосом, разнесшимся по всей площади Революции:
– О, Свобода, какие преступления совершаются от твоего имени!
Так вслед за Марией Антуанеттой умерла вторая женщина Франции, потому что революция, как всегда, во все времена и везде, пожирала своих собственных детей…
Возвращаясь с площади Революции и перебирая мысленно все увиденное, Жан заметил шумную толпу фигляров, одетых в священнические рясы и митры, пьяных, смеющихся и распевающих песни. Явными пленниками в этой процессии тащились депутаты Собрания.
– Чем хорошо безделье, – посмеялся сам над собой Жан, – оно поощряет вмешательство в чужие дела. Но это редкое и любопытное зрелище, а чем еще мне заняться?
Он смешался с толпой. Толпа перелилась через мост на остров Святого Людовика, и Жан понял, что они направляются к собору Нотр Дам. Собор уже не был церковью, над его входом висела странная надпись: “Храм Разума”. Внутри собор изменился еще больше: статуи седых святых выброшены из ниш, на их месте установлены бюсты Марата и других революционных “героев”, распятия сломаны, выброшены, изображения ангелов уничтожены, а высоко на алтаре девица Кандейль из Оперы, завернувшаяся в прозрачную ткань, представляла собой Богиню Разума. Рядом с ней расположились другие актрисы, еще более обнаженные, их балетные туники прикрывали фигуры только от бедер до талии, все же, что выше, демонстрировалось так, как создала природа.
Жан рассматривал их с холодной усмешкой, раздумывая над тем, что изобретение одежды было одним из серьезных достижений цивилизации, ибо так редко встречается достаточно красивое тело, чтобы открыто демонстрировать его людям.
Его насмешливый взгляд в конце концов задержался на одной фигуре, заслуживавшей внимания: гибкой, высокой девушке с великолепной грудью – высокой, острой, крутой, и его врожденное любопытство заставило его взглянуть на ее лицо, чтобы убедиться, соответствует ли оно совершенству ее тела. Оно соответствовало – и даже более того. Он остолбенел, у него перехватило дыхание от удивления, губы шевелились, выговаривая ее имя.