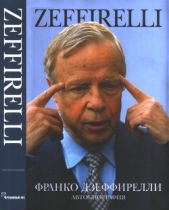Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеется

Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеется читать книгу онлайн
В книгу классика украинской литературы Ивана Франко (1856–1916) вошли наиболее известные стихотворения, поэмы («Смерть Каина», «Иван Вишневский», «На Святоюрской горе», «Моисей») и рассказы (из книги «В поте лица», из Борисовского цикла), отличающиеся богатством тем и разнообразием жанров, а также повесть «Борислав смеется».
Вступительная статья С. Крыжановского и Б. Турганова.
Комментарии Б. Турганова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это как же так, это по-каковски? — говорил Олекса, подходя ближе. — Пан доктор сюда приехали больных осматривать, а сами ни в одну хату и не заглянут, только бранятся да людей поносят.
— Klamiesz, galganie! [67]- крикнул что есть силы маленький перепуганный доктор.
— Пан сам врет! — отрезал Олекса, у которого от злости надулись жилы на лбу.
— Со, со, со? [68] — забормотал староста, соскакивая с брички.
— А то, что слышите! Как же это так, — пан доктор деньги берет, а люди мрут без всякой помощи!
— А ty, drabie, а ty galganie, — вскинулся староста, уязвленный в самое чувствительное место — исполнение им службы и взимание мзды, — ta jak ty smiesz w zywe oczy klamac? Ta jak ty smiesz?… [69]
Злоба сжимала горло старосты, пена брызгала у него изо рта при каждом слове.
— Пан, — отвечал Олекса, — вы с людьми не шутите, мы тут и не таких панов видали! Смотрите, нынче не такое время; кто знает — сегодня еще жив, а завтра тебя уже нет!
— Со, ty b§dziesz grozic? Hej, przysigzny, wojcie, bierzie tego rozbojnika, bierzce go, on mi§ zabic chce! [70] — вопил староста.
Олекса больше всего не любил таких «панских» шуток. Злость кипела в нем. Он больше не мог удержаться и осыпал старосту и доктора градом отнюдь не салонных слов. Староста покричал, а потом, видя, что и бабы стали вторить Олексе, умолк, сел в бричку и, плюнув, велел ехать в другое село.
— A niech was tu wszystkich cholera wytnie! [71] — ругался он,
— Тебя первого, шкуродер, кровопийца, получай! — кричал ему вслед Олекса.
С тех пор пан староста стал считать наше село разбойничьим гнездом.
Припоминая эту не совсем эстетичную, а тем менее патриархальную сцену, я обратил внимание еще на одно любопытное явление. Когда случалась какая-нибудь неприятность, нужно было где-нибудь резко поговорить, поспорить, потребовать чего-нибудь, — односельчане тыкали Олексу. «Ты-де ступай, тебе что? Милостью его ты не дорожишь, ну, а нам, знаешь, всяко приходится!» Олекса, горячая голова, не смотрел, что наживает себе на каждом шагу все больше врагов, — шел и жалил обидчика прямо в глаза. В такие времена наши богатеи забывали свою злобу, ласково заговаривали с Олексой, шутили с ним, довольные, что могут спрятаться за его спину. Но едва неприятность миновала — ого, снова мой Олекса и мерзавец, и разбойник, и вор, и кто его знает что еще. А бедняки хоть и видели порою, как обстоит дело, но живут-то они милостями богачей, вот и должны молчать, а то и подпевать им.
Вот этого-то Олексу Сторожа я и вспомнил, когда в «просвещенном» и «честном» обществе оказался в таком же положении, как он среди «порядочных и честных» хозяев. «А что, — подумал я, — не поехать ли мне его проведать? Это будет любопытная встреча двух подвергнутых проскрипции, и притом за схожие дела. Что-то он скажет? Как встретит меня?»
Мысль эта недолго мучила меня. Раздобыв денег на дорогу, я сел в поезд и поехал.
Разумеется, первым делом я отправился в свою хату, то есть в отцовскую, в которой жили теперь два моих брата, еще молодые хлопцы девятнадцати и пятнадцати лет, и отчим с мачехой. Отчим, мужчина в расцвете сил, считался одним из «наипорядочнейших и наичестнейших» хозяев. Он принял меня очень радушно и приветливо, даже, казалось, слишком уж радушно, расспрашивал о последних новостях, о войне, о Берлинском конгрессе, о выстрелах в императора Вильгельма и с удивительным тактом обходил вопрос о моих «преступлениях» и о моем «наказании». Правда, толкуя о том о сем, мы дошли наконец и до этого щекотливого вопроса, однако отчим, казалось, не проявлял к нему большого интереса, я сказал несколько общих, незначащих елов, он покачал головой, и мы перешли на другие темы.
Я спросил про Олекеу и сказал, что хотел бы его повидать.
— Э, что ты, такого разбойника! — бросил презрительно отчим, но тут же поправился, лицо его, как бы через силу, приняло холодное, равнодушное выражение, и он сказал: — Ну, что же, если непременно хочешь, так можно, отчего нет, — пойдешь завтра и повидаешься с Олексой.
Я отлично знал характер отчима и из этого разговора понял: должно быть, что-то немаловажное встало меж ним и Олексой за эти два года. Я начал полегоньку выспрашивать, что произошло, подходил с разных сторон, но, кроме обычных ссор и свар, ничего не нащупал. А мачеха сказала даже своим всегдашним льстивым тоном, что, мол, «теперь отец в такой дружбе с Олексой, что все село удивляется».
Это меня совсем сбило с толку. С тем большим нетерпением ждал я завтрашнего дня, чтобы повидать Олексу.
Но еще в тот же вечер Олекса, прослышав, что приехал Мирон из Львова, сам поспешил ко мне. Я уже поужинал и как раз в этот момент шел спать на гумно, когда увидел Олексу, подымающегося вдоль берега своим обычным медленным, твердым шагом. Его невысокая, чуть приземистая фигура, длинные солдатские усы, большие серые глаза и полу-добродушное, полу-саркастическое выражение лица, сейчас с ласковой улыбкой обращенное ко мне, — все это живо вызвало в моей памяти прежнего Олексу, молодого, веселого отпускника, который меня, малыша, носил на руках к речке, где покойник отец с другим Сторожем ловил рыбу.
— А довелось, однако, довелось, — неторопливо говорил. Олекса, подходя.
Мы поздоровались.
— Ты что ж это, брат, на нас прогневался, между панами так долго живши! — сказал он, и на лице его мелькнула едкая усмешка.
— Да, — отвечал я, — что поделаешь, брат, если паны меня так полюбили, что и на свет глянуть не дают!
— Ага, оно и видно! — сказал Олекса.
— Что-то мы, Сторожи, не в милости у них, — заметил я.
Олекса как-то невесело улыбнулся. Мое замечание задело его, видно, за больное место.
— Ты что же, спать уже ложишься? — бросил он.
— Да вот собрался было, но какой там сон, не хочется.
— Ну так, может, пойдешь со мной поглядеть на Сторожевщину? А то кто его знает, скоро ли тебя снова увидим.
Я пошел, не возражая.
Тропинка вела вниз огородами, через речку и выгон, а там сворачивала за село на Сторожевщину.
Долго мы молчали. Я видел, как лицо Олексы постепенно мрачнело, словно какие-то невеселые мысли теснились в его голове.
— Ну что же, Олекса, — первым прервал я молчание, когда мы вышли на выгон, — расскажите мне, что тут делается, как вам жилось все эти годы.
— А что нам, жилось как жилось, — неохотно ответил Олекса. — Все по-старому. Вот бы ты лучше рассказал, что там с тобой?
При этом он взглянул на меня с таким странным выражением, что я не знал, что и сказать.
— Эх, брат, брат, — грустно произнес он, — не того мы от тебя ожидали! Мы думали: авось хоть один из Сторожей добьется чего-нибудь, будет и нам помощь, а тут вот оно что, такой позор!
Олекса оборвал и отвернулся от меня.
Эти слова, так свысока вдруг сказанные, ударили меня точно молотом по голове. Кровь бросилась мне в лицо…
— Как это — позор? — едва произнес я. дрожащим голосом.
— Ну, а что же, честь? — подхватил Олекса. — Сидеть в тюрьме, с ворами, и за что?
— Ну, за что, за что? — спросил я.
— А господь бог тебя знает, за что. Может, ты убил кого, или ограбил, или еще что — кто тебя знает? Вот про нас так уже почитай все говорят, что разбойники, мол, ну, да черт с ними, но о тебе мы такого не слыхали! А тут — бух! А что-нибудь должно же быть, ведь за что-то тебя засудили!..
Как обидно, тяжело, страшно стало мне от этих слов! Глубокая, жгучая боль вошла в сердце, сжала грудь. Так, значит, я уже дошел до того, что и родня от меня отворачивается; нет — даже Олекса, этот несчастный, вечно презираемый и преследуемый, тот, который, — кто знает, — быть может надеялся получить от меня помощь и спасение, теперь отталкивает меня! А что же тогда должен думать обо мне отчим? Теперь мне совершенно понятен был его холодно-приторный тон. Мне стало очень горько. Весь мир показался мне чужим, холодным, неприступным. Я почувствовал себя оторванным от всего, почувствовал, что всякая здоровая связь с жизнью у меня оборвалась, что, если так будет и дальше, я сойду с ума, наложу на себя руки. Я решил рассказать Олексе все, объяснить ему, в чем моя вина.