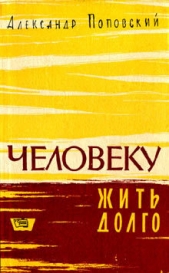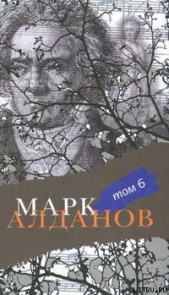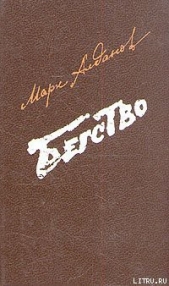Повесть о смерти
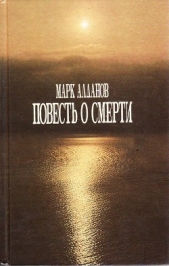
Повесть о смерти читать книгу онлайн
Марк Алданов — блестящий русский писатель-историк XX века, он явился автором произведений, непревзойденных по достоверности (писатель много времени провел в архивах) и глубине осмысления жизни великих людей прошлого и настоящего.
«Повесть о смерти» — о последних мгновениях жизни Оноре де Бальзака. Писателя неизменно занимают вопросы нравственности, вечных ценностей и исторической целесообразности происходящего в мире.
«Повесть о смерти» печаталась в нью-йоркском «Новом журнале» в шести номерах в 1952—1953 гг., в каждом по одной части примерно равного объема. Два экземпляра машинописи последней редакции хранятся в Библиотеке-архиве Российского фонда культуры и в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк). Когда Алданов не вмещался в отведенный ему редакцией журнала объем — около 64 страниц для каждого отрывка — он опускал отдельные главы. 6 августа 1952 года по поводу сокращений в третьей части он писал Р.Б. Гулю: «В третьем отрывке я выпускаю главы, в которых Виер посещает киевские кружки и в Верховне ведет разговор
с Бальзаком. Для журнала выпуск их можно считать выигрышным: действие идет быстрее. Выпущенные главы я заменяю рядами точек»[1].
Он писал и о сокращениях в последующих частях: опустил главу о Бланки, поскольку ранее она была опубликована в газете «Новое русское слово», предполагал опустить и главу об Араго, также поместить ее в газете, но в последний момент передумал, и она вошла в журнальный текст.
Писатель был твердо уверен, что повесть вскоре выйдет отдельной книгой и Издательстве имени Чехова, намеревался дня этого издания дописать намеченные главы. Но жизнь распорядилась иначе. Руководство издательства, вместо того, чтобы печатать недавно опубликованную в журнале повесть, решило переиздать один из старых романов Алданова, «Ключ», к тому времени ставший библиографической редкостью. Алданов не возражал. «Повесть о смерти» так и не вышла отдельным изданием при его жизни, текст остался недописанным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Та «горькая ирония», о которой говорил «Constitutionnel», действительно была ему свойственна, но она вполне уживалась или даже скорее была одним из проявлений необыкновенной внутренней серьезности, составлявшей редкую и привлекательную черту его характера. Жизнь без «служения» не имела бы для него смысла. Сама по себе эта черта не очень редка; но он своему служению пожертвовал половиной жизни. Слащавая словесность в подобных случаях говорит о «Прекрасной даме, Революции». Едва ли он очень любил свободу: все-таки стоял ведь за диктатуру. Едва ли была у него и патологическая любовь к революциям. Французский композитор Мегюль, заканчивая партитуру, писал на ней: «Удовольствие кончилось, начинаются неприятности», — разумел корректуры, постановку, рецензии. У Бланки сомнительное «удовольствие» кончалось гораздо худшими неприятностями, долгими годами тюрьмы. Но он никак не был счастлив в те дни, когда восстания происходили. Другие люди с безотрадным миропониманием находили свои выходы, — о них говорит настоящая книга. Он никакого выхода не нашел. Бальзак легко мог объяснить и объяснял, почему он ненавидит революцию. Бланки, не отказываясь от своих основных взглядов, не мог бы объяснить, почему он ей служит. Все понимал в революциях, кроме одного: зачем они нужны.
VI
Mon сoeur pour s'еpancher n'a que vous et les dieux [121].
В хорошую погоду Роксолана после окончания работы гуляла в Люксембургском саду. Этот сад ей понравился. И хотя неоткуда ей было встретить знакомых, всё надеялась: вдруг встретит? В Галате нашла бы приятелей и приятельниц на каждой улице. Здесь же было гораздо труднее завести новые знакомства, чем в Константинополе и даже чем во Флоренции. Французы оказались очень замкнутым народом. Ей не удалось познакомиться и с соседями по дому; быть может, ее профессия не внушала им доверия.
В саду к ней не подходили ни русские князья, ни английские лорды. Иногда пытались пристать какие-то молодые люди, но она их боялась: «Наверное бедный, а может быть, и больной, а может быть, тоже какой-нибудь Жак Ферран, возьмет и ночью зарежет!» Обедала она в недорогом ресторане поблизости от сада. Но как ни приятно было, что у нее собственная квартира, да еще такая хорошая, возвращалась она домой всегда с печальным чувством: опять одна.
Впрочем, были и радости: сбережения росли, и пришли деньги по купонам от купленных ею бумаг. Она была чрезвычайно довольна: «Не надули Ротшильды, вот спасибо! И хорошо это придумали люди: и ничего не делала, а деньги сами собой пришли! Отнесу им еще!»
В один из первых дней июня ей в Люксембургском саду бросилось в глаза знакомое лицо. Всех красивых мужчин она уж безошибочно запоминала навсегда. Этого молодого человека она раз видела в Константинополе, он был знакомый сумасшедшего русского старика. Столкнувшись с ним, Роксолана ахнула и улыбнулась ему так радостно, точно они были старые друзья. Он удивленно взглянул на нее, тоже узнал и вежливо поклонился. Она по французски пропела, что очень рада его видеть. Виер совершенно не знал, кто она. Роксолана совершенно не знала, кто он.
— Так вы в Париже? — одновременно спросили они друг друга. Оба справились о Лейдене и оба ответили, что ничего о нем не знают. Затем она самым певучим своим голосом предложила пообедать вместе. По инстинкту добавила, что ресторан очень недорогой.
Немного поколебавшись, Виер согласился. В этот день он находился в таком же настроении, как она.
По дороге в ресторан оба, тоже одновременно, спросили друг друга: «А как вас зовут?» — и оба засмеялись. Его очень позабавило имя Роксолана. Но когда она за обедом сообщила ему, чем занимается, он не улыбнулся. «Ну, что ж, и ей надо жить. Вот она, „la peine des hommes“ [122]», подумал он.
— А ко мне недавно приходил знаменитый писатель, — похвастала она. — Его зовут Бальзак. Ах, какой умный! Но страшный.
— Правда? — с улыбкой спросил он.
— Ты его читал? Я тебе говорю ты, я всем, кто молодой и красивый, говорю ты. А я ему гадала. Он мне сказал, что в Америке теперь придумали столы… Как это называется? Спе… Спиритизм, — выговорила она. — Ты не слышал? А ты мне тоже говори ты. Я тоже молодая и красивая
— Что-то слышал. Это столоверчение, ворожба столами. Вздор, конечно.
— Ах, не говори! Это может быть очень выгодно. А после обеда пойдем ко мне, — сказала Роксолана. Он ласково смотрел на нее.
Вечером Виер вышел от нее с новой своей усмешкой. Ничего особенно нехорошего он не сделал, но легкое чувство неловкости испытывал: Лейден был его старший друг и по возрасту годился ему в отцы. «Да ведь их дело кончено, у него это было такое же пустое похождение, как у меня. Не предполагал я о нем такого. И я хорош, но я не женат»… У него было смутное чувство, будто тем, что он сошелся с женщиной легкого поведения, он мстил капиталистическому обществу.
На следующий день он опять к ней пришел. Она встретила его с восторгом. Была очень им довольна. Красивый поляк был не богат, хотя хорошо и очень чисто одет. В ресторане Роксолана поморщилась, когда услышала, что он ищет работы и хочет поступить в какие-то мастерские, где платят два франка в день. Тем не менее она горячо звала его приходить к ней возможно чаще. Он был друг сумасшедшего русского, и Роксолана его не боялась.
— Иногда буду приходить, — сказал он.
— Зачем иногда? Приходи в пять часов в сад кажый день. Я люблю тебя. А ты меня любишь? А чем ты прежде занимался?
«Что ей сказать?» — подумал он. — «И в самом деле, чем я прежде занимался?»
— Я революционер.
Она сначала не поняла. Получив краткое разъяснение, одобрила:
— Это хорошо. На этом можно заработать много денег. Ты только в мастерскую не ходи, а всё хорошо обдумывай и газету читай каждый день.
Он с той же улыбкой подумал, что в сущности приблизительно то же самое мог бы сказать Бальзак. «Он ведь наверное убежден, что революции устраиваются темными людьми для наживы. В пошлости легче всего сойтись большим с малыми».
— Я и так читаю.
— Увидишь, ты будешь богатый. За тебя всякая богачка пойдет, потому что ты такой красивый. А ты смотри, не торопись, всё раньше узнай. Куда спешить? Дай, я тебе погадаю.
Взглянув на его руку, она огорчилась.
— Ах, нехорошо! Короткая линия жизни!
— Да ведь это вздор.
— Ах, нет, не вздор! Вот сомнамбулки вздор, эта Генриетта шарлатанка! А рука не вздор. Да, ведь, если и короткая линия, то и пять лет можно прожить! Ты хочешь жить долго?
— Хочу ли? Нет!
— Так многие говорят. А потом, когда больны, плачут: «Не хочу умереть, хочу выздороветь», — особенно мило пропела она, подражая плаксивому тону людей, которые так говорят. Сама она не боялась смерти, потому что никогда о ней не думала. Смутно верила, что там на небе всё, должно быть, как-нибудь устроится, не то, чтобы хорошо, но и не очень плохо: как на земле.
— Нет, я плакать не буду! Человек не должен умирать в кровати, босой, в ночной рубашке. Умирать надо в мундире! Наполеоновские маршалы делили людей только на офицеров, штатских и врагов. А для штатских у них было презрительное слово: «pekins». По своему они были правы. Я военный, а громадное большинство людей — штатские, и враги у них личные, ничтожные.
«Да он совсем дурачок», — ласково подумала она. — «Что же тут хорошего? Если кто умирает в мундире, то, значит, умирает молодым? И совсем он не офицер, хвастает. Офицера сейчас видно».
— Я многих офицеров знала, одного страшного богача, — сказала она. — Ты глупый, но ты храбрый. Я люблю храбрых. Один из за меня в Галате разбил головы двум пьяным. Правда, и сам был пьяный… Знаешь, что, приходи завтра не в пять, а в четверть пятого. Будем вместе пить шоколад.
VII
Я становился независимее и отвыкал от людей; не избегал никого, но лица сделались мне равнодушны. Я увидел, что серьезно глубоких связей у меня нет, что я чужой между посторонними, сочувствую больше одним, чем другим, но ни с кем тесно не соединен. Оно и прежде так было, но я не замечал этого, увлеченный собственными думами; теперь маскарад кончился, домино сняты, венки попадали с голов, маски с лиц, и я увидел черты не те, которые предполагал. Я мог не показывать, что многих меньше люблю, т. е. больше знаю, но не чувствовать этого не мог.