Истоки
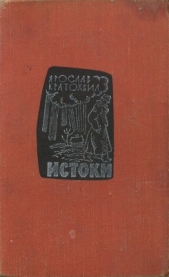
Истоки читать книгу онлайн
Роман Ярослава Кратохвила «Истоки» посвящен жизни военнопленных чехов и словаков в революционной России 1916–1917 годов. Вместо патетического прославления «героического» похода чехословаков в России Кратохвил повествует о большой трагедии военнопленных — чехов и словаков, втянутых в контрреволюционную авантюру международной реакции против молодой России, и весьма неприглядной роли в этом чехословацких буржуазных руководителей, а так же раскрывает жизненные истоки революционного движения, захватывавшего все более широкие слои крестьянства, солдат, как русских, так и иноземных.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Гришенька, не пей много! Гришенька, поправь воротничок! Гришенька, а где же Сонечка?
Всякую паузу она наполняла вздохами:
— Ах, милые, простите матери! Он — единственная радость моя. Единственная гордость! Единственное, что у меня осталось! Гришенька! Смотрю на него — и сердце материнское гордится и радуется…
Через весь стол она с упреком бросила коменданту, сидевшему с видом важным и достойным:
— Родион Родионович, вы отнимаете единственную радость матери-вдовы, Гришеньку моего! Его уже ранили один раз, а теперь, не дай бог, убьют совсем… Сердце матери разорвется… О, если б вы его знали! Как увижу Колю Ширяева — плачу. Как придет Сонечка — плачет вместе со мной. Господи, еще так недавно они играли вон у того забора! Коля и Сонечка тут — а Гришеньки моего нету… Родион Родионович! Не прогневайтесь за правду. Почему же ему, единственной опоре вдовы, раненному, нельзя, как другим, служить в тылу? Почему же ему, студенту, не дадут отсрочки?
Гриша Палушин бросал на мать хмурые взгляды и поддразнивал ее, храбрясь и бахвалясь:
— Мама, ты не понимаешь! Я все равно сбегу. Место молодых — на фронте. Ну, убьют меня, не более того. Другие останутся. Я тоже ведь убиваю немцев.
— Батюшки, послушайте его только! — испуганно ахнула вдова. — Гришенька! А материнского сердца тебе не жалко?
Зуевский, чтобы положить конец ее вздохам и перевести разговор, обратил внимание Палушиной на Томана, сидевшего рядом с ней.
— Наталья Ивановна, — весело вскричал он, — оглянитесь! Мы поймали одного немца. Ну-ка проберите его!
Томан подлил масла в огонь всеобщего веселья, защищаясь с неловкой серьезностью.
— Да нет, — краснея, возразил он. — Я не немец. Я чех, славянин.
— Врет, матушка, врет! — весело кричал Зуевский. — Он австриец!
Старая дама молча, неприязненно смерила Томана взглядом.
— Вот как, — укоризненно проговорила она затем. — Так это вы ранили моего Гришеньку? О, боже мой! Зачем вы сражаетесь против нас?
— Наталья Ивановна! — смеясь, крикнул ей через стол Мартьянов. — А ведь этот немец, что рядом с вами, — он — командир наших врагов! Он и в плену зубки показывает. Какую-то борьбу тут затевает…
Палушина не слушала его.
— Скажите же, — с непоколебимой серьезностью нацелилась она на растерявшегося Томана, — скажите, ну зачем? Зачем вы напали на нас, на православных? Неужели мы не приняли бы вас как гостей, если б вы пришли с миром, по-христиански? Мало ли у нас разных ваших немцев! Пришли к нам — многие, пожалуй, неимущие, — но пришли мирно! И живут у нас лучше, чем наши, православные.
Из щекотливого положения Томана вывел сам Гриша Палушин: он энергично отвлек его от чересчур разговорчивой мамаши. Но Гриша мог разговаривать только о войне. Узнав о месте и времени пленения Томана, он переполошил всех гостей внезапным ликованием:
— Послушайте, да ведь это же при мне было! Ну да, с нами был Варшавский полк. Дамы и господа! — кричал он всем. — Мы пятьдесят тысяч пленных взяли! Честное слово!
Матери он объяснил:
— Мама, да ведь я этого австрийца чуть ли не сам и поймал.
И рассмеялся:
— Вот каковы мы, русские! Вытащим неприятеля из окопов — и, пожалуйте, милости просим к нам на чаи!
Потом кольнул Томана острием неприязненности:
— А у вас нашего брата голодом морят за колючей проволокой. Я-то знаю!
Он не желал слушать возражений и, не дав Томану слова сказать, принялся описывать ту битву.
От Палушина Томана освободила какая-то черная бородка, с гибкой учтивостью всунувшись между ними:
— Позвольте заметить… Преподаватель женской гимназии Галецкий… Я бывал, знаете ли, у вас в Вене. О, какой город! Камень! Памятники! Таковы и все ваши города. У вас нет отсталых, глухих деревень — нашего бескультурья…
Улыбаясь, он заглядывал Томану в глаза участливо и доверительно:
— Wissen Sie [173], я видел разницу между двумя мирами — Европой и Азией. И понимаю, почему вы нас бьете. Зачем лгать самим себе? Я высказываю свое убеждение: вы нас бьете по праву. В природе побеждает сильнейший…
— Например, тигры, египетская саранча и чумные микробы, — с легкомысленным коварством подхватил Коля Ширяев, присаживаясь поодаль.
— Но, Коля, сравнение неудачно! Война с немцами — здоровая школа, лекарство от нашей обломовщины…
— Володя, — скользнул меж спорящих откуда-то сбоку гибкий ласочий голосок, — опять ты увлекся политикой. В нашем кружке это допустимо, а тут — дамы… — «Ласочка» подала Томану мягкую улыбку: — Господин офицер и не понимает твоей русской политики…
— Моя жена, — угрюмо представил ее Галецкий и сейчас же отошел.
Томан очутился с глазу на глаз с госпожой Галецкой; он чувствовал, как обвивают его бархатные слова и улыбки этой дамы.
— Европейцам трудно дышать в атмосфере нашей отсталости, — заговорила госпожа Галецкая, и слова ее были, как кошка, крадущаяся по мокрому двору. — Любому русскому болвану разрешено тиранить пленных. Не правда ли?
С тонким пониманием она дала Томану возможность выговориться. Она отсела с ним в сторонку и терпеливо, внимательно, кротко слушала его речи о чешском вопросе, нимало не интересуясь им и порой даже не понимая, что он говорит, — русский язык Томана был далек от совершенства. Наконец когда ей показалось, что он высказал уже все, она, не погашая выражения заинтересованности в красивых глазах, показала пальчиком на его петлицы:
— А это — какое звание? И как оно будет по-вашему?
Австрийская форма решительно нравилась ей больше немецкой:
— Элегантнее!
Когда же Томан сказал, что, будучи славянином, носит эту форму без всякого удовольствия, она и это поняла сразу и полностью.
— О, я знаю славян! — воскликнула она. — Русские много сделали для славян, да и сейчас воюют за них.
Она кокетливо покосилась на Томана и спросила:
— А бывал ли наш славянин в русской православной церкви? Не был?..
И, обратившись к Соне, к Палушину и Ширяеву, воскликнула:
— Знаете что? Поведем завтра господина офицера в церковь! Завтра, господин… простите, как звать вас по имени и отчеству?
— Франц Осипович.
— Франц Осипович… Я правильно произношу? Франц Осипович, завтра заходите за мной. Обязательно! Все равно, придут эти люди или нет. Буду ждать!
Томан, ободренный беседой с этой женщиной, заговорил с Мартьяновым, Зуевским и Трофимовым о деле Петраша. Но комендант, сидевший в конце стола, так наглухо замкнулся в своем достоинстве, что Томан не решился говорить об этом слишком громко. Мартьянов ловко помог ему.
И тут комендант вдруг заявил:
— Я, как солдат, не могу одобрить политики в среде пленных. Правда, что так называемым славянам предоставляются льготы. Но это лишь портит многих. Нарушается справедливость: все ведь были взяты в плен на той же самой войне — конечно, благородно, в честном бою. Поэтому я считаю, что им надо создать условия человеческие, достойные офицерского звания, и пользоваться льготами они должны в равной мере. Что, если б немцы таким же манером начали разлагать наших пленных?
Трофимов зевнул; подсев ближе к Томану, он проворчал:
— Сам-то он немец!
И развязно через весь стол крикнул коменданту:
— Родион Родионович! Известно ведь, что немцы сами, во всеуслышание, объявили все нравственные законы человечества пустыми словами!
Госпожа Галецкая, недовольная тем, что от нее отвлекли Томана, нахмурилась:
— Ах, бросьте вы вашу политику!
Муж ее кисло улыбнулся.
«Болтовня, голубчики, болтовня», — говорили Томану его прищуренные глаза.
— А я согласен с Петром Михеевичем, — присоединился к Трофимову Мартьянов. — Если эти самые славяне и австрийцы хотят работать на нас добровольно, — что ж, это, пожалуй, вполне благородно с их стороны. А помешать благородным намерениям мы не имеем права. Это ведь нам, русским, на пользу. Добровольно-то работают лучше, чем по принуждению. И нет тут ничего безнравственного. В конце-то концов мы их и заставить могли бы. Пленные ведь!


























