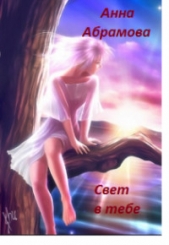Свет мой Том I (СИ)
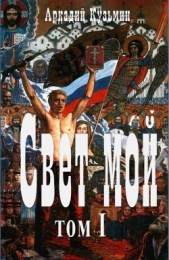
Свет мой Том I (СИ) читать книгу онлайн
Роман «Свет мой» (в 4-х книгах) — художественные воспоминания-размышления о реальных событиях XX века в России, в судьбах рядовых героев. Тот век велик на поступки соотечественников. Они узнали НЭП, коллективизацию, жили в военные 1941–1945 годы, во время перестройки и разрушения самого государства — глубокие вязкие колеи и шрамы… Но герои жили, любя, и в блокадном Ленинграде, бились с врагом, и в Сталинграде. И в оккупированном гитлеровцами Ржеве, отстоявшем от Москвы в 220 километрах… Именно ржевский мальчик прочтет немецкому офицеру ноябрьскую речь Сталина, напечатанную в газете «Правда» и сброшенную нашим самолетом 8 ноября 1941 г. как листовку… А по освобождению он попадет в военную часть и вместе с нею проделает путь через всю Польшу до Берлина, где он сделает два рисунка. А другой герой, разведчик Дунайской флотилии, высаживался с десантами под Керчью, под Одессой; он был ранен власовцем в Будапеште, затем попал в госпиталь в Белград. Ему ошибочно — как погибшему — было поставлено у Дуная надгробие. Третий молодец потерял руку под Нарвой. Четвертый — радист… Но, конечно же, на первое место ставлю в книге подвиг героинь — наших матерей, сестер. В послевоенное время мои герои, в которых — ни в одном — нет никакого вымысла и ложного пафоса, учились и работали, любили и сдружались. Кто-то стал художником. Да, впрочем, не столько военная тема в этом романе заботит автора. Одни события мимолетны, а другие — неясно, когда они начались и когда же закончатся; их не отринешь вдруг, они все еще идут и сейчас. Как и страшная междоусобица на Украине. Печально.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, да… Не имеют значения… Для одержимых…
— Все не так просто, Павел, с политикой. Ведь независимому правительству Финляндии присягнул на верность кадровый русский офицер Маннергейм. В дни российской анархии. Он возненавидел большевиков и чернь. Даже расстрелял взбунтовавшихся финских рабочих. Навел порядок. — Об этом я читал, — сказал Павел. — И вот, возглавив уже финскую армию, опоясал границу с нами на Карельском перешейке шипами надолб, а берег финского залива бетонными дотами и дзотами, которых ни один снаряд не прошибал, возбуждался в разговоре Ярослав. — Поверьте…
— Что ж, не промах, знать… Нашел себя… И проявил…
— Откроюсь Вам, я все это видел рядом, как военный корреспондент. По вхождению в Зеленогорск видел даже установленные на столах у финнов теплые пироги: они столь поспешно ретировались отсюда. Уверились настолько в прочность своей обороны…
— Видно, подготовились на ять…
— Так на их стороне была колоссальная помощь западных стран, считавших своим долгом защититься от Советской России. Вся Европа, ее лидеры, собирала сюда сотни самолетов, орудий, танков, посылала сюда инструкторов, добровольцев. Кое-кто из стратегов считал возможным двинуться отсюда с оружием на Москву…
А то, что Маннергейм поддержит Гитлера — всенепременно. Да и другие страны-малышки точно примкнут, можно быть уверенным в этом. Несладко нам придется… — сказал Ярослав на прощание.
II
Этот откровенный, хоть и случайный, пляжный разговор и пролет чужого самолета в небе поколебал первоначальное решение Павла остаться здесь, в Сестрорецке, на какие-то дни: дети могли оказаться в опасности. Поэтому Степины, несколько поприпиравшись по-здравому, однако, рассудив, решили вечером же вернуться к себе — на Таврическую улицу.
Павел ругал в душе все и всех за напрасную поездку.
К утру Павел всяко понимал: с летом дело — дрянь! Уж в небе — фюзеляж чужой!.. Но только друг Армен Меликьян считал, что вполне безопасно будет для них, Степиных, выехать из Ленинграда куда-нибудь восточней в область и там, среди природы, лучше перелетить каникулы, пока в пограничье наши войска поквитаются с тевтонцами. Да и был он заведомо уверен:
— Вот еще дадим мы, русичи, по зубам этим шпендрикам Гитлера! Посворачиваем им башки!
Впрочем, Павел, который еще никогда не нюхал пороха, и сам-то сходно размышлял, прислушиваясь к толкам и толкаясь среди живого, бурлящего люда; он тоже по-обывательски судил о защитительных возможностях страны, уверовав в непробивную мощь России, какую никто и ничто неспособны пересилить, сломить.
Между тем встревоженная Яна, отгоняя прочь самоуспокоенность, сомневалась в целесообразности вывоза теперь двоих детей на летний сезон из города: ее настолько пугала заполонившая все вокруг какая-то необъятная хаотичная пустота в произвольно, казалось бы, идущих событиях, не жалующих никого. Действительно тут никакой уж хороший советчик явно не мог бы предложить ей, маловерке, что-либо стояще-защитительное для жизни ее детей, увы. Ведь отныне самотечно все человеческие понятия сместились, а все делалось людьми ровно в какой-то заколдованной спешке. Словно жесточеннейший вихрь, внезапно налетев, враз сорвал крышу с жилища и дверь с петель; он же соответственно подхватил и всех жильцов, живущих в нем, с силой закружил и понес куда-то врассыпную, как песок сыпучий. Они-то не успели ни даже собраться со своими обыденно-трескучими, не дававшими им покоя, мыслями и никому ненужными решениями, ни даже мимолетно оглянуться ни на что.
Никакой толковой информации не было.
Вот поди, уясни толком что-нибудь путное на ходу, в такой неразволоке…
Когда где-то невдали, у самого порога, или уже здесь, за порогом, была на полном ходу и наславу наизготовившаяся для бойни чудовищная немецкая армия. Хищно раздувала ноздри. Напирала рылом, не разбирая ничего под ногами. Дрожи, визжи вся Европа! Твой час, коллаборационист!
Увы, делать нечего. Яна благоразумно собралась, не артачась, не мешкая, но скрипя сердцем, в нынешний отпуск вместе с детьми — Толей и Любой; она оттого и делала все как-то механически, непрочувствованно, сама себя не контролируя с прежней привычностью. Не контролировала еще постольку, поскольку они, оба непутевых, она осознавала, великовозрастных родителя, находились сейчас при ребятах в психически-взъерошенном виде, ибо вновь поскандалили открыто — при очередной вспышке недовольства друг другом. Оно же, сегодняшнее, недовольство, проявилось лишь из-за того, что они впопыхах, собираясь, чуть было не забыли взять с собой патефон с классными пластинками — увлечение Павла. Именно из-за этого они опоздали на нужный рейс поезда, а потом Яна неуклюже засуетилась при отчаянной посадке в вагон, что еще сильней раздражило взвинченного непорядком Павла.
Видно, не зря Яна считала себя убежденной невинной страдалицей, продолжающей ею быть при нем, муже. Определенно она страдала с той осени, как она с ним сблизилась опрометчиво, отказавшись вдруг от союза душ с Никитушкой и, значит, от новых его, Никитушкиных, волшебных к ней писем, по которым она всегда потом вздыхала, все поняв, перебирая их в руках. Она стойко, как истая историчка-консерватор, не доверяла ничьим благостным словам (перестала доверять), тем более мужниным; она каждый раз понимала его, его подлинную человеческую суть, все меньше, чем больше, как жена, общалась с ним. Невозвратно время. Да не судима избранность судьбы. Лекарства нет для лечения хронического супружеского разномыслия. Изюминка как раз в том, чтоб не залечить его. Ни под кого.
Нынешняя ссора вышла — Павел полагал, — может быть, потому, что он после ночи, и проспавшись вполне нормально, позевывал отчего-то, точно от острой нехватки кислорода в организме. Оттого, видимо, так заклинило в нем механизм переработки его дум пустых, неразрешимых, сколько он ни старался осмысленней и напряженней думать о чем-либо нужном. От него-то самого ничего уже не зависело сейчас, и все. Видимо, просто дьявол недумающий сидел в нем и правил им.
И то: осознанно Павел считал себя обязанным быть правым перед женой почти во всем, как вполне настоящий мужчина, законный преемник и продолжатель мужского абсолюта в жизни, иметь веский голос, быть непреклонным перед слабым противником — женщиной. Тут вовсе ничего не значило, что шла война. По его понятию, мудрость в таком мужском противостоянии заключалась в непризнании при этом никакой своей неправоты, что бы ни случилось; причем он не исключал из этого и даже факта своей супружеской неверности, о чем Яна доподлинно знала (он переспал с ее родной сестрой). Ну и что такого! В его саморассуждениях на этот счет в том, конечно же, могла быть виновата лишь жена: она сама допустила промах. Она ведь прекрасно знала, что он, молодой горячий мужчина испытывал постоянную физическую неудовлетворенность в постели с ней, однако оставалась ледышкой театрализованной, экзальтированной почитательницей искусства — с ахами, с вздохами попусту, умилением перед чем-то ненастоящим, напридуманным кем-то.
Да что возьмешь от женщины упрямо-глухой, нелюбвеобильной? Хотя и очень порядочной, разумной: она пока жила без скрипучего комплекса-желания пугать разводом. Была в том бессмысленность? Она оказалась как-никак старше Павла на пять лет, отчего вроде бы и оказалась привязанной к нему, если не навечно, то наверняка надолго. Добровольно, выходит, привязанной. Как в наказание.
И Павел это однозначно и хорошо усвоил. Наверное, еще потому-то он с каких-то пор вполне освоился с ролью некоего командира в своей семье и потому-то считал себе вправе поступать и думать, и судить-рядить, повышая голос, по своему хотению, а правоты жены никак не признавал (лишь иногда), так как в большей степени замечал ее бестолковость в делах будних, ежедневных. По его мнению, она сильна была в теории, а не в практике, что вовсе не одно и то же — никак несравнимо.
— Вот заботушка у нас хуже губернаторского, — сказала Яна при сборах в отъезд. — Только бы не попасть нам, Павлуш, в пекло, не обмишуриться… Пообомнут тогда нам бока.
![Торговцы [=Торгаши]](/uploads/posts/books/187865/187865.jpg)