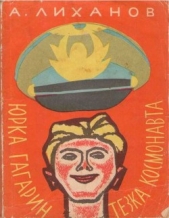Музыканты. Повести

Музыканты. Повести читать книгу онлайн
В сборник известного советского писателя Юрия Нагибина вошли новые повести о музыкантах: «Князь Юрка Голицын» — о знаменитом капельмейстере прошлого века, создателе лучшего в России народного хора, пропагандисте русской песни, познакомившем Европу и Америку с нашим национальным хоровым пением, и «Блестящая и горестная жизнь Имре Кальмана» — о прославленном короле оперетты, привившем традиционному жанру новые ритмы и созвучия, идущие от венгерско-цыганского мелоса — чардаша.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А завершится все тем безмерно печальным зрелищем, что явлено на знаменитой картине Виктора Васнецова «После побоища», только вместо богатырей в кольчугах и шишаках, на опустевшей земле, под багровым солнцем и тенями громадных хищных птиц, будут валяться длинноволосые, бесполые молодые люди, а вместо мечей и бердышей — искореженные электроинструменты.
И тогда в отдалении возникнет фигура одинокого цыгана. Он взмахнет смычком, и польется вечная чистая песня. Встанут с земли поверженные с юными, прекрасными, задумчиво-тихими лицами — и это будет спасением.
Вместо эпилога
Эти вкусно пахнущие, обставленные в уютном стиле конца прошлого века кафе будапештцы до сих пор называют по имени прежнего владельца — «Жербо». В одном из таких кафе, по всей вероятности помнившем Кальмана, мы и встретились. Место встречи, конечно, выбрал Пал, театральный критик на покое, сильно пожилой, смуглый и очень крепкий человек (язык не повернется сказать — старик), которому чуть приметная хромота и зажатая в руке тяжелая, с медным набалдашником трость придавали вид ветеранской уверенности и напора, хотя Пал никогда не носил военной формы.
Я все откладывал нашу встречу, запланированную общими друзьями чуть ли не на день моего прилета в Будапешт. Они считали, что путь к Кальману идет через Пала, в первую очередь через Пала, его современника, близкого знакомого, отчасти коллеги, поскольку Кальман долгое время подвизался в газете в качестве музыкального критика. Но я боялся, что собеседник сразу превратится в моего наставника, уж слишком ярок был отсвет творца «Княгини чардаша» на его челе. Меня всегда страшило попасть под пресс чужого, выношенного мнения, готовой «теории» творца и человека. Это лишает внутренней свободы, гасит то, что пышно именуют «творческим импульсом». Мне надо до всего доходить своим умом, даже если путь предстоит окольный и неторный. К тем писателям, поэтам, композиторам, о которых мне довелось писать, я старался приблизиться прежде всего через их творчество, вживаясь в человека с помощью созданного им, а не исследователями. Каюсь, не люблю специалистов, мне с ними душно. «Очевидцев» тоже не больно жалую, они, как правило, ничего не помнят по-настоящему, но каждый цепко держится за свою легенду. Если я пишу о композиторе, то мой строительный материал: много, много музыки, биографические сведения, минимум писем и воспоминаний. И ко дню нашей встречи с Палом в «Жербо» я не только наслушался Кальмана до отупения, но повидался с его родственниками и с очаровательными в своей легкой и опрятной старости актрисами — участницами кальмановских премьер, — каждая показывала, как драгоценность, сухую увядшую руку, которой касались губы благодарного маэстро, наскочил я и на сочинителя веселой музыки, то ли продолжавшего, то ли преодолевавшего традиции Кальмана, и на дряхлого музыковеда, судившего о нем на уровне тех критиков, что обвиняли «Княгиню чардаша» в сервилизме, и на согбенного режиссера, ставившего «Наездника-дьявола» в одном провинциальном театре до войны, прочел мемуарную книгу Веры Кальман, прелестные и досадно краткие воспоминания самого композитора, а главное — выработал свое собственное к нему отношение. Словом, я уже не боялся встречи с Палом.
Мы заняли столик с круглой мраморной столешницей, сделали заказ, обмениваясь ничего не значащими замечаниями. Заказ был выполнен на диво быстро, перед каждым оказалась чашка с дымящимся кофе, кусок вишневого торта, сливочница и стакан с холодной водой.
Аккуратно откусив прекрасными вставными зубами кусочек торта и запив глотком кофе, Пал с решительным видом заявил, что «Венгрия — страна Бартока, а не Кальмана», и для убедительности стукнул ладонью по мраморной крышке столика.
— Мне кажется, вы себя обедняете. Венгрия — страна Листа, Эрккеля, Бартока, Кодая, Кальмана и Легара. При желании список можно увеличить.
— А зачем?
— Искусство — это трамвай, в котором никогда не тесно.
— Чьи слова? — спросил он заинтересованно.
— Аристотеля.
Он серьезно кивнул, но тут же спохватился и захохотал:
— Маленькие нации должны быть разборчивее к своим знаменитостям.
— Скорей уж — бережнее.
— Это тоже из Аристотеля?.. Поймите, Кальман стал писать оперетты, потому что не выдержал конкуренции Бартока и Кодая на ристалище серьезной музыки.
На это я сказал, что он объяснил мне заодно и феномен Штрауса, поднявшего вальсовую музыку на небывалую высоту. По-видимому, все дело в том, что он не потянул в заочном соперничестве с Гайдном и Шубертом, ему ничего не оставалось, как стать «королем вальса».
— Но вы же не станете утверждать, что равным творческим усилием созданы «Варварское аллегро» и «Принцесса цирка»?
Я с простодушным видом спросил, что́ стоило тяжело нуждавшемуся Бартоку стиснуть зубы да и размахнуться «Принцессой цирка» — на всю жизнь хватило бы.
— Барток был слишком принципиален и горд для этого.
— Но не считал же он унизительным для себя просить поставщика музыкального брик-а-брака устроить его сочинения в печать. Просьба, кстати, была немедленно выполнена, о чем Барток нигде не упоминает.
— Зато Кальман хвастается напропалую.
— Не хвастается, а гордится, что помог великому человеку. Но мы говорим не о том. Барток просто не мог сочинить «Принцессу цирка», как Кальман — «Варварское аллегро». Разные типы одаренности. Даже гениальности. Ведь назвал же Шостакович, творец величайших симфоний и посредственной оперетты «Москва, Черемушки» Кальмана гением.
— Он его в самом деле так назвал?
— Да. И сделал это печатно. Из творцов легкой музыки он возвел в гении лишь Кальмана и Оффенбаха, не причислив к ним короля вальса Иоганна Штрауса.
— Каждый имеет право на собственное мнение.
— Конечно. Но надо полагать, что в существе таланта творцы разбираются лучше критиков. Один музыковед — не из числа самых глупых — утверждал, что Кальману было трудно выдвинуться в Вене, тогда он решил написать великую оперетту. И возникла «Княгиня чардаша». А не прими он решения, так бы и сорил всяким дрянцом.
Видно, вкусный торт и ароматный кофе подействовали умиротворяюще на моего собеседника.
— Давайте считать, что тема «Барток — Кальман» еще ждет своего исследователя.
— А вы считаете, что такая тема правомочна?
— Они были соучениками по консерватории, дружили, годы шли рука об руку. Кальман привил Бартоку любовь к Чайковскому — ненадолго, правда, но в «Кошут-симфонии» ощущается влияние увертюры «Тысяча восемьсот двенадцатый год». Они и позже встречались, Барток пытался обратить Кальмана в свою политическую веру. Да тут материала на несколько диссертаций!
— Кому они нужны?
— А кому нужны девяносто девять процентов всех диссертаций? Только самим диссертантам. Но в оставшемся одном проценте оказалась «Частная теория относительности» Эйнштейна, и этим амнистирован весь остальной мусор.
— Я надеялся, что вы расскажете мне что-то новое о Кальмане. Вы же знали его…
— Ну, знал — слишком громкое слово! — живо перебил Пал. — Что мы вообще знаем друг о друге? Мы виделись с десяток раз, как-то перекинулись в картишки. Он играл вдумчиво, медленно и плохо. На проигрыш разозлился, но умеренно. Был не речист. А вообще — серьезный, положительный, работящий человек. Мастер своего дела. И набит мелодиями до ноздрей. Опереточный Верди.
— Это общеизвестно.
Пал задумался, а потом сказал с веселыми искорками в карих непогасших глазах:
— Хотите, я расскажу вам маленькую историю, никому или почти никому не известную?
— Еще бы! — вскричал я. — Вишневый торт мне вреден, от кофе — сердцебиение, а хулы на Кальмана я наслушался предостаточно.
— Жил-был обожатель Бартока и, естественно, ненавистник Кальмана, журналист, писавший иногда о музыке, хотя музыкальным образованием не обладал. Он был любителем высшей пробы — с абсолютным слухом, завсегдатаем концертов, другом крупных музыкантов. К его мнению прислушивались. Он много сделал для популяризации Белы Бартока. Прожив долгую, очень долгую жизнь, он долго, очень долго, хотя и без особых мучений, умирал от болезни, ставшей бичом нашего времени. Мы все родились под тропиком рака. Угасал медленно, отказываясь постепенно от всего, что любил. А любил он многое: тонкую еду, хорошее вино, женщин, общество друзей (он попрощался с ними, когда слег, и запретил навещать себя); наконец очередь дошла до книг и газет, телевизора и последних известий по радио, его не интересовало, что происходит в мире длящих жизнь. Из живых существ при нем оставалась лишь старая жена, из неотвратимостей — музыка. Когда он не спал и не проваливался в забытье, то включал магнитофон и слушал Бартока, иногда крутил приемник, чтобы найти Бартока в пустом шуме мироздания. Незадолго до кончины он уже не мог прослушать какую-нибудь вещь Бартока до конца: не хватало ни душевных, ни физических сил. Теперь он крутил ручку приемника почти машинально, выхватывая из хаоса случайные звуки. Однажды он наткнулся на знакомую, но забытую мелодию. Он стал слушать и слушал так долго, что из кухни прибежала обеспокоенная жена. Она-то знала, как ненавистна ему эта музыка, и решила, что он кончается.