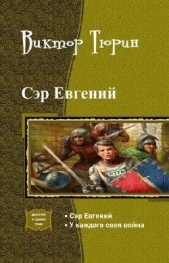Распутин
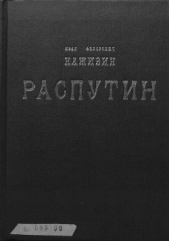
Распутин читать книгу онлайн
Впервые в России печатается роман русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940), который после публикации в Берлине в 1923 году и перевода на английский, немецкий и чешский языки был необычайно популярен в Европе и Америке и заслужил высокую оценку таких известных писателей, как Томас Манн и Сельма Лагерлеф.
Роман об одной из самых загадочных личностей начала XX в. — Григории Распутине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вечерело. И все угрюмее становилось в жутких просторах этих. Григорий притомился маленько от дальней езды — разбаловался в Петербурге-то, да и рана сказывалась — и потому, когда увидал он на опушке большой поляны обделанный каким-то человеколюбцем камнями ключик среди узловатых корней столетних лиственниц, он остановил своего маштачка, тяжело свалился с седла и подошел к ключику. Не перекрестившись на литое, прозеленевшее распятие, вделанное в могучий ствол дерева, он взял берестяной ковшичек и напился. И, бросив на землю свою поддевку, он лег на нее лицом кверху и закрыл глаза.
Тайга шумела, как море, иногда точно выла и иногда точно стонала, и шел в ней треск ломающихся сухих ветвей то близко, то далеко — точно лешие завели какую-то дикую чехарду, точно кто-то большой тяжко выл от тоски и горя. И под шум этот в голове Григория шла дума, старая русская дума, дума, от которой темнеет солнце, от которой люди богохульствуют, от которой люди, не находя себе на земле места, вешаются на грязной веревке, только бы как избыть эту думу. Много образов из пережитого теснились за этим низким землистым лбом, полузабытых и ярко-свежих, и все эти образы сплетались в одном тяжком и мучительном выводе: все ничего не стоит, все пустяки, все обман, и нет ни в чем отрады… Вот злая забавница-судьба выбросила вдруг его, малограмотного, кровью покрытого — тайга эта хорошо знала дела его, но молчала, а и не молчала бы, так тоже наплевать, — в смрадном блуде вывалявшегося мужика на самые высоты жизни. У ног его лежат несметные богатства и судьбы миллионов людей, самые красивые женщины прибегут к нему сюда, за тысячи верст, только свистни он, все в его власти, что только может пожелать себе человек, и — все это засмердело тленьем, как только он чуть притронулся к нему, и он не хочет даже и харкнуть на это. Все, чего только он хочет, — это убежать прочь от всего туда, где бы ничего не было и где бы не было, главное, его самого, пустого, отравленного, окаянного — не знамо, почему…
Сто лет тому назад тут же, в этих страшных просторах, в которых человек так смешно мал, в таком же вот лесу жил здесь старый человек по имени Феодор Кузьмич, и говорят люди, что это был могучий русский царь Александр I, что Наполеона опрокинул и всему свету замиренье дал. А когда поднялся он так на вершины славы и могущества человеческого, он с великим отвращением увидел лишь кровь великую, великие преступления, дьявольский обман, и с омерзением и ужасом он отвернулся от всего. Но у того в пустых безднах мира все же осталась зацепка какая-то — вера, молитвы, Бог. Григорий ездил на его могилу, посмотрел, послушал, что говорила она. Но говорила она пустое, ибо он, Григорий, наверное знал — все испытал! — что молитва — слова бесполезные, что все веры — игрушки для младенцев, а Бог, ежели даже и есть он, то не видит и не слышит он человека, а потому он и без надобности. Что, не молился он до кровавого поту, не терзал свое тело веригами железными, не сгорал в постах суровых? А что все это дало ему? Ничего… И он взял иконы Спаса, и Богородицы с дитенком, и Николая Угодника — а за ними ли нет силы, думают люди! — и исщепал их в щепы и пожег в самоваре и — ничего! И вызывая Бога на обнаружение себя, не он ли принес домой во рту из церкви причастие и выплюнул его в отхожее место? И опять ничего!.. И не он ли за стаканом со старым варнаком, а теперь богатеем Кудимычем, благоприятелем своим, такое говорил о жиде распятом, что казалось, и земля выдержать не должна бы, а ничего, все сошло за милую душу! И всего тяжеле было тут то, что вызывая так Бога, испытуя Его, он уже наперед знал, что все сойдет, что обман все это, сказка, пустота великая…
Ничего святого для него в жизни не стало. Вот он больно хорошо знает, что плетут по всей России про него с царицей — будто в блуде они живут, — а ему наплевать на это, и не только он и пальцем не шевельнул, чтобы остановить грязные сплётки, но наоборот, косым взглядом смеющимся, ухмылкой без слова, движением брови косматой он молча как бы подтверждает все это: пес с ними, пусть плетут… Да и лень опровергать…
Да и не поверят, сволочи… И она знает, что плетут про нее, а нет, не брезгует вот им, мужиком смердящим, гордая царица — ей только бы спасти дитенка своего, и верит, дура ученая, в какую-то силу его чудесную!.. И десятки, сотни других баб, молодых, пригожих, богатеющих, часами ждали взгляда его, а велел он им мыть себя в бане, мыли и во всем исполняли волю его мужицкую… А их мужей, братьев, сыновей раззолоченных, от золота да почестей бесившихся, он ругал в лицо матерно, а они гоготали радостно, словно и невесть какое отличие получили, сволочи… Анхиреи и митрополиты, пока он блудил и пьянствовал, часами выжидали в его приемной, а выходил он к ним, потный и вонючий, они, стервецы косматые, считали за честь и счастье облобызаться с ним! И дитенок жалкий, царевич, ластится к нему, а подойдет такая минута, может он стукнуть его по голове чем ни попадя и за ноги в окошко выбросить, а девок — придет каприз — в спальню к себе без жалости возьмет и пятки себе грязные чесать заставит. Нету в ем никакой зацепки, все обман и пустяковина, и на все ему наплевать. И тяжко ему ходить по земле и смотреть на все это представление ненужное, вроде как в киатрах, и мозжит его душа, точно вся чирьями покрылась, и ни в чем нет ему услады — да что услады, хоть бы отдыха только, от себя отдыха! И не раз, и не два брался он в темноте ночной за вожжи, чтобы повеситься на перемете над кучею навозною, но точно какая сила его удерживает: а ну, подожди, что еще у сволочей выйдет? А выйти что-нибудь должно беспременно, потому запутались все вчистую и путем никто уж ни во что не верит, а так только, для спокою вид делают, что верят, и все один на другого зубами лязгают, как звери таежные… Что-то их еще на цепи держит, а вот бы подвести бы такое, чтобы цепи те ослабли да упали — ох, и была бы потеха, мать ты моя честная, курица лесная! И пусть, и пусть! Мать их так и эдак, сволочей… Потому изоврались все до невозможности. Будь его сила, всю землю он со всех концов запалил бы, а сам ржал бы как мерин, да в огонь ссал бы… И что-то вот точно шепчет душе его, что близки сроки и увидит земля еще невиданное…
А ему что до этого? Наплевать и растереть, только и всех делов… Вот если бы нашелся какой чародей, который ослобонил бы его от муки мученской этой, снял бы с него эту печать Каинову, это проклятие неизбывное — вот что одно нужно ему… Истомилась его душенька, и нет силы больше терпеть… Вот, вот подкатывает под сердце этот комок боли колючей — ох, и тяжко же на свет Божий глядеть!
И Григорий вдруг дико завыл и головой своей стал биться об узловатые корни старой лиственницы, о камни, о землю сырую, выл и бился, выл и бился. И пуще всего хотелось ему, чтобы слеза проступила — раньше от этого облегчение бывало, — но теперь слез уже не было, не было облегченья муки мученской, не было спасенья… И выла, и плакала, и трещала тайга, точно в муке великой какой, и внизу, у корней ее, выл и бился человек, сын Божий, сам не знающий, за что же так наказует его Господь, чем особенным он так прогневил его?..
И чуткое ухо таежное уловило скорый поскок лошади вдали. Григорий встал, оправился и подошел хмуро к своему маштачку, тяжело влез на седло и шажком поехал по тропе. И вот, смотрит, летит во весь опор Васютка, племяш его, складный парень лет двадцати с хвостиком, такой матерщинник, такой блядун, что индо смех берет — летит без шапки, только волосы ветер бурный треплет…
— А, дяденька… А я было на заимку за тобою гнал…
— Чего такое там случилось?
— Телеграм тебе от царицы подали… Велит тебе скорее назад ехать. Пишет: война с ерманцем начинается…
— Чево?! Ты сдурел?!
— Нет. Так и прописано: война с немцами…
— Война? С немцем? Да что они там, осатанели, мать их распере-так? — рванул Григорий с сердцем. — Забыли, знать, как енаралы их перед японцем-то отличались? — он задохнулся в приливе гнева. — Едем!
И рядом они поскакали пустынной дорогой, под бурей к дому. Григорий был хмур. Тяжелые думы, как жернова, ворочались в его темном мозгу.


![Сэр Евгений [СИ]](/uploads/posts/books/35451/35451.jpg)