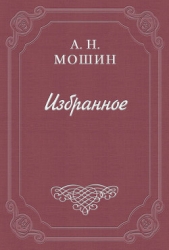Вишнёвый омут

Вишнёвый омут читать книгу онлайн
В романе известного советского писателя М. Алексеева «Вишнёвый омут», удостоенном Государственной премии РСФСР, ярко и поэтично показана самобытная жизнь русской деревни, неистребимая жажда людей сделать любовь счастливой.
Данная книга является участником проекта "Испр@влено". Если Вы желаете сообщить об ошибках, опечатках или иных недостатках данной книги, то Вы можете сделать это по адресу: http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?t=3127
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Польку Паву с ребёнком оставили у Митькиной матери.
— Зачем ты это сделал, Карпушка? — спросил Михаил Аверьянович.
— Он же, бандит, передушил бы нас тут.
— Дурак ты! Какой же он бандит?
— Раз от властей скрывается, стало быть…
— И ещё раз дурак.
— Это почему же? — обиделся Карпушка. — Человек совершил преступление и должен ответ держать.
— Какое преступление?
— А уполномоченного побил?
— Так тому уполномоченному и надо. Не разобрался, в чём дело, не поговорил с парнем… Ванюшка рассказывал мне, как всё случилось. Разве ж так можно?
Михаил Аверьянович умолк, встретившись с Карпушкиным взглядом: всегдашнего простодушия в его глазах как не бывало. Злой, ощетинившийся, смотрел он на своего старого друга с величайшим укором. Заговорил трудно, с болью:
— Может, ты, Михайла, забыл, как Андрей Савкин твои яблони с корнем выдёргивал, как над Улькой измывался, как его покойный батюшка твою мать на колени ставил? Забыл? Ну, так и забывай! А я не забуду вовек, как за паршивую икону, распро… их мать, они, Савкины эти, заставили меня кровью харкать! Это ведь я своей глупой Маланье могу всё прощать — сошлись без любви, разошлись без неё, этой самой… теперя сызнова вместе. Зла на неё у меня нету. Не от сладкой жизни бабёнка мечется. А энтих… я б их всех своими руками… И Митька, раз кровью помешался с бандитской породой, — нету ему от меня пощады. И на Страшном суде не раскаюсь, что выдал его, сукиного сына, властям. Не царским властям, а своей родной Советской власти выдал! И ты меня, Михайла, не попрекай! У меня своя голова на плечах!
На другой день стало известно, что Митька по пути в Баланду бежал из-под стражи. Его везли в телеге, по бокам сидели с револьверами два милиционера, и когда дорога за Панциревкой пошла по-над крутым берегом Игрицы, Митька в один миг растолкал милиционеров в разные стороны и прыгнул в воду с трехметровой высоты. Не успели конвоиры прийти в себя, как он уже подплывал к левому, лесистому берегу. Несколько пуль, пущенных вдогонку, всхлипнули возле Митькиной головы, а через минуту он уже скрылся в прибрежных зарослях камыша и тальника.
А неделю спустя в глухую, непогожую ночь, когда сад шумел, как море во время шторма, когда чёрные горизонты полыхали грозными языками молний и глухие раскаты грома надсадно ухали в кромешной тьме, когда смолкли соловьи в крыжовнике, когда мятущиеся ивы над Игрицей купались макушками в её высокой чёрной волне, свистя и стеная, Митька подкрался к Карпушкиному шалашу и поджёг его. Острые лезвия пламени вспороли соломенную крышу, обожгли яблоневые ветви и вонзились в аспидно-чёрный мрамор неба, могильной плитой нависшего над тревожно гудящим садом.
— Карау-ул!.. — слабо прозвучало в шуме деревьев, в далёком, грозном гуле грома, в звонком выхлопе разъярившегося пламени.
Карпушка, задыхаясь в дыму, пытался открыть дверь, но она была подпёрта снаружи толстой слегою. Проснувшийся от треска загоревшихся яблонь Михаил Аверьянович кинулся на помощь Карпушке, но было уже поздно: обнажившиеся красные рёбра шалаша надломились, рухнули, пламя взыграло ещё яростнее; нырнувший в эту огненную крутоверть, Михаил Аверьянович успел выхватить из-под пылающих обломков шалаша тело товарища, на нём самом горели рубаха, штаны, волосы в бороде опалило. Красным факелом пролетел он по саду к Игрице, а потом, выбравшись из воды, в беспамятстве пролежал на её берегу до утра в обнимку с другом, похожим теперь на большую, отдающую холодным, сырым, острым, угарным дымком головешку. Ветер к рассвету разогнал тучи, затем и сам стих, горизонт побелел, и сад, молчаливый свидетель только что закончившейся драмы, тревожно вздыхая, склонил свои зелёные ветви над людьми, без которых он будто сразу же поскучнел.
На похороны Карпушки неожиданно пришло чуть ли не полсела. Как это часто бывает с людьми, только теперь, после смерти человека, они поняли, как близок и дорог был он им. Без роду, без племени, явившийся неведомо откуда, из каких краёв, Карпушка давно стал частью их самих, таким же, как они, затонцы, и только, может быть, лучше многих из них научен жизнью не роптать, не падать духом, когда она, жизнь, прижмёт, придавит тяжким своим прессом, мог искуснее прятать сердечную боль-тоску свою за немудрой шуткой, за не приносящей никому зла смешной выдумкой. Не за то ли прежде всего он был и любим ими?
Смерть Карпушки была очень не ко времени, потому что подстерегла его как раз в тот момент, когда он, претерпев все тяготы нелёгкой своей доли, выкарабкался наконец на дорогу, к которой сознательно и бессознательно стремился всю свою долгую скитальческую жизнь, ту самую дорогу, по которой мог идти прямо, не горбясь, идти без трусливой оглядки, никого не страшась, ни от кого не прячась, никому — ни себе, ни другим — не мороча голову разными небывальщинами, — в тот самый момент, когда он стал вдруг тем, кем был в действительности, то есть очень разумным, трезво мыслящим мужиком, когда ему уже незачем было притворяться затонским петрушкой, когда он мог говорить людям то, что думал, говорить всерьёз, с сознанием человеческого своего достоинства.
Хлопоты о похоронах взяли на себя Харламовы, с которыми Карпушка сдружился с давних пор и был как бы членом их семьи. Заделавшийся колхозным хлебопёком, однорукий Пётр Михайлович Харламов с помощью Дарьюшки, Фроси и Фени, а также своих дочерей Любоньки и Маши готовил поминки. В день же похорон и сам Пётр Михайлович, и все женщины присоединились к траурной процессии.
Над Савкиным Затоном плыли скорбные мелодии — играл духовой оркестр, присланный из Баланды по просьбе секретаря затонской комсомольской ячейки Ивана Харламова. Ближе всех к гробу шли, обнявшись, Меланья и Улька, переселившаяся к Карпушке после раскулачивания отца. Обе плакали. Меланья время от времени начинала причитать. Другие шедшие за гробом бабы крепились, но недолго. Вот и они понемногу одна за другой зашмыгали носами, потащили к глазам концы платков, а потом вдруг заплакали все сразу, взвыли по-волчьи протяжно, тоскливо, страшно — никто так не плачет по умершему, как женщины, и не потому ли, что им, дающим жизнь, особенно ужасна и ненавистна уносящая её смерть?..