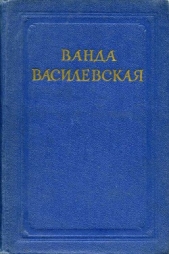Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят
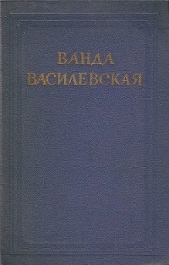
Том 4. Песнь над водами. Часть III. Реки горят читать книгу онлайн
В 4-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошла заключительная книга трилогии «Песнь над водами», посвящённая событиям 1941—45 гг. Содержание: Песнь над водами - Часть III. Реки горят.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот «гениальный план» не был почему-то выполнен. Кто-то помешал. Может, они слишком рано ушли в Иран. А может, большевики все разузнали, — неизвестно. Но еще здесь, в лагере под Хабанией, Хожиняку случалось слышать тихие вздохи о том, что этот план не был выполнен, — «а жаль, очень жаль, гениальный был план…»
Почему он только теперь видит все так ясно, всю свою пропащую, обманутую, погибшую жизнь — теперь, когда уже поздно? Его послали в двадцатом году драться не за то, за что он думал. Его толкнули в тридцать девятом и сороковом на преступление и на горе, — мало ли он настрадался в то время, скиталец, преследуемый беглец, узник? И, наконец, отправили его сюда, умирать в этой ужасающей голой пустыне… зачем? За что? «Ведь кто же я такой? Крестьянский сын, простой крестьянин, из которого господа сделали себе слугу и игрушку…»
Грохотало в голове, грохотало в груди, гремело пространство, словно на хабанийский аэродром шли целые соединения «летающих крепостей». И среди этого гула, сквозь который он провалился куда-то вниз, Хожиняк подумал, что прав был тот высокий, которого расстреляли. Отсюда не было пути в Польшу. Отсюда был лишь один путь — к бесславной гибели, к смерти.
«Но теперь поздно», — сказал себе Хожиняк, слушая, как гул самолетов, шакалий вой пустыни и сумасшедшие удары сердца сливаются в один хор, как чужая, враждебная земля тысячами голосов поет близкие, родные слова:
Он силился приподняться, но все тело словно свинцом налилось. Расплавленный свинец пульсировал в жилах, расплавленный свинец гнал обезумевшее сердце, расплавленный свинец клокотал в горле. Дорога была одна — в раскаленную добела, жестокую, пустынную смерть. Путь заканчивался. И осадник Хожиняк соскользнул с него вглубь замыкающего мир стеклянного купола как раз в тот момент, когда из-за горизонта вдруг сверкнуло огромное, яростное, беспощадное солнце и безжалостным светом залило белые, как кости, камни, консервные банки, валяющиеся вокруг людей, спящих тяжелым, лихорадочным сном у грязных палаток, и человеческие кости тут же за лагерем, вытащенные из каменных могил шакалами, и всю горестную долю лагеря у озера Хабаниа — огороженного колючей проволокой лагеря в жгучей каменной пустыне.
Глава XII
По небу переваливаются тяжелые тучи, их гонит высокий ветер, незаметный на земле. В просветах туч, словно в глубоком колодце, вдруг покажется затуманенный, сонный месяц и белым мертвенным блеском осветит пологие холмы и черные группы берез, ольхи, обнаженные деревья с облетевшей листвой. Где-то внизу лунный свет зажигается на узкой речушке, и она одно мгновение блестит, как осколок разбитого зеркала.
Эх, речка, узкая, извилистая речка Мерея! Кому суждено тебя перейти?
Длинна октябрьская ночь. Не спится в эту ночь. Не даешь ты спать, не даешь уснуть, речка Мерея, вьющаяся по топким долинкам…
Мокрая глина окопов. Марцысь плотнее кутается в шинель. Воздух насыщен сыростью. Но в сущности трудно понять, холод ли пронизывает до костей, или это внутренняя дрожь. «Лихорадка? — дивится сам себе Марцысь. — Я ведь совсем здоров!» И все же зубы стучат от озноба, а на лбу выступает пот. Не от тебя ли веет холодом и жаром, речка Мерея? Не от тебя ли идут горячие волны и мелкая дрожь, пробегающие по телу?
Вдали взлетают трассирующие пули прямо в небо и потом падают полукругом вниз, как узенькая струйка фонтана или маленькая комета, оставляющая за собой пунктирный след.
Снова показывается месяц из-за туч. По ту сторону долины, за речкой Мереей, — крутые склоны холмов. Там прикорнули деревни, тихие, примолкшие. Лишь мимолетно, когда ветер разгоняет тучи, виднеются высокие силуэты деревьев. «Тополя, — думает Марцысь. — Да, это тополя». Мелькает воспоминание: такие тополя, как там, в совхозе. Только здесь нет аллеи, а лишь отдельные деревья, чернеющие, будто погасшие факелы. Куда же он шел по зеленой тополевой аллее в необозримой казахстанской степи? Сюда, к речке Мерее, — к новой грани, к воротам в новую жизнь.
Где-то справа за рекой — выстрел. Но, видимо, еще случайный. Трудно поверить, что это фронт, что в тех вон деревнях, по холмам, за речкой проходят фашистские позиции.
Границей пролегла речка Мерея. Где же Варшава, где Груец? Далеко на запад. Не одну еще речку, не одну долину, не одну гряду холмов придется перейти… И все же это уже не то, что было вчера. Великий путь на родину начался. Начался и его, Марцыся, путь. По сравнению с этим все остальное потеряло значение, стало не важным и мелким. Как смешно, что недавно, сидя на тракторе, распахивая поле в Казахстане, он воображал себя капитаном корабля и гордился так, что чувствовал мощные шумящие крылья за спиной! Нет, подлинная жизнь начинается только сегодня.
Она началась даже не там, над Окой, где он впервые увидел бело-красное знамя и сменил на военную форму свой вылинявший совхозный комбинезон. А ведь и тогда казалось, что вот уже начинается настоящая жизнь!.. Даже когда он получил винтовку и думал, что такого счастья, такого восторга ему уж больше не пережить, — и это было еще не то.
Самое важное в жизни началось только сегодня. Только сейчас. Когда он знает, что утром будет то, о чем говорил вчерашний приказ: «Вперед, в бой, солдаты Первой дивизии!..»
И слова, запомнившиеся, как присяга: «За вами пойдут на фронт другие польские дивизии. Но никто не отнимет у вас того, что вы — Первая дивизия. Будьте же ею не только по названию…»
А в ней, в этой дивизии, кто будет первым? Быть может, как раз он, Марцысь Роек из Груйца, тракторист-стахановец из совхоза в Казахстане… Ах, именно здесь можно, как раз здесь нужно быть первым… Теперь это уже не сон и не мечта, не детские фантазии, теперь это явь — октябрьская холодная ночь, и лунный отблеск на извилистых водах речушки Мереи, и немцы там, на пригорках. Их не видно. Они притаились по селам, укрылись в окопах. Но известно, что они здесь. Завтра — лишь завтра или собственно уже сегодня? — он столкнется с ними лицом к лицу.
Марцысь не так представлял себе фронт. Трудно поверить, что через несколько часов здесь будет бой, и грохот орудий, и крики несущихся в атаку. Тиха ночь. Изредка где-то далеко раздастся выстрел, как бы не настоящий, как бы данный по ошибке… На пригорках подозрительно сверкает. Таится в ночи неизвестное. Тщетно стараются глаза уловить сквозь полумрак какое-то определенное очертание там, на противоположной стороне. Может, именно сейчас там, в окопе, так же не спит враг и так же всматривается в темноту, обманчивую, клубящуюся, как тучи на небе, освещаемую призрачным светом то появляющегося, то исчезающего месяца?.. Может, смотрит прямо на Марцыся?
Немцы знают, кто стоит против них. Недаром они вчера бросили листовки, совершенно дурацкие, нелепые листовки, воображая, что могут кого-то переманить или напугать. Но откуда они так быстро узнали, что против них стоят поляки? Как это дошло до них в тот же день, когда дивизия прибыла на этот участок фронта?
Марцысь беспокойно оглянулся. Возможно ли, чтобы здесь, среди людей, которые плакали, как дети, получая оружие, и целовали орлов на своих шапках, — возможно ли, чтобы среди них был кто-то, кто дает вести врагам, кто высокими словами прикрывает подлую измену? Быть может, он сейчас крадется туда…
Но в окопах тихо. Люди молчат, дремлют или, так же как он, закутавшись в шинели, стоят, прильнув к холодной глине окопа, всматриваясь в предательскую тьму того берега.
Впрочем, пусть враг знает, кто перед ним. О, пусть знает! Завтра он узнает еще лучше. Он снова увидит орлов на шапках и бело-красное знамя и услышит польские слова… Но на этот раз все будет иначе, чем тогда, в тридцать девятом!