Тутмос
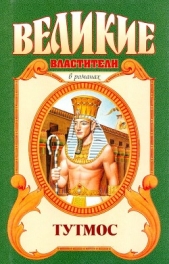
Тутмос читать книгу онлайн
О жизни и деятельности легендарного египетского фараона XVIII династии Тутмоса III (ок. 1508-1436), время правления которого считается периодом наивысшего могущества и процветания Египта, рассказывает новый роман писательницы-историка Веры Василевской.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Позови детей, — сказал он тихо, — всех троих.
Он сказал «троих», имея в виду и Рамери, и Ка-Мут поняла его. Инени, Рамери и Раннаи ожидали в соседнем покое и сразу вошли, остановились у двери, словно притихшие дети. Беспомощные, растерянные ушебти… Инени приехал позавчера, один, без жены и детей, Раннаи пришла сразу же, как только узнала о нездоровье отца, Рамери пришёл несколько часов назад, и они втроём ожидали зова в соседнем покое, без слов, безмолвно. Теперь пришли, чтобы сказать: «Вот я…» Раннаи прятала лицо, должно быть, не хотела, чтобы умирающий видел её слёзы. А Рамери был бледен, так бледен, словно смуглый цвет его кожи внезапно выцвел, золото солнца сменила холодная бледность луны.
— Подойдите, — прошептал Джосеркара-сенеб.
Они подошли и опустились на колени возле ложа: Инени и Раннаи по одну сторону, Рамери по другую. Ка-Мут отошла и села в кресло немного поодаль, мать уступила место детям, среди которых был и тот, кого Джосеркара-сенеб любил как сына, хотя он и был чужеземцем по крови. Инени предостерегающе сжал плечо Раннаи — она всё ещё не могла поднять глаз.
— Не нужно плакать, дочь, — мягко сказал Джосеркара-сенеб, — смерть приходит вовремя, я ухожу, чтобы уступить своё место на земле, оно нужно новому человеку. Так заведено, ибо путь солнца лежит от восхода до заката, и каждый новорождённый должен дышать воздухом, согреваться солнечным теплом, их и уступит ему умирающий. Я ухожу в Аменти с радостным сердцем, я спокоен — сегодня долгожданный царевич огласил своим криком царский дворец, я успел увидеть восход нового солнца. Заветом оставляю вам верность царскому дому, верность его величеству Менхеперра и будущему фараону, чтобы никто, глядя на вас, не мог сказать: «Дети Джосеркара-сенеба предали то, что было для него свято, чему он отдал всю свою жизнь…»
У Рамери вырвался стон, похожий на рыдание, Инени тяжело вздохнул. Обессиленный долгой речью, Джосеркара-сенеб закрыл глаза и лежал так какое-то время, и только по слабому движению груди можно было понять, что дыхание жизни ещё не оставило его. Инени уже хотел заговорить, но старый жрец вновь открыл глаза, его губы разомкнулись, но шептал он уже так тихо, что окружившим ложе пришлось наклониться к умирающему.
— Дети, я молю богов, чтобы сердца ваши никогда не узнали, что такое пустота без любви и верности, без исполнения долга. Там, в Аменти, я буду ждать вас, и лишь тот приблизится ко мне, кто исполнит свой долг до конца, чьё имя с благодарностью будет произносить благой бог Кемет. Я отдал всю жизнь царскому дому, но я не жалею об этом! Я желал бы увидеться с вами там, на ступенях трона Осириса, встретить правогласных, истинных моих детей. Помните…
— Учитель, — вырвалось у Рамери, — а я? Разве смогу я приблизиться к тебе, разве мне, презренному рабу, не преградят дорогу стражи Аменти? Неужели мне, злосчастному, рождённому на земле Хальпы, не суждено увидеться с тобой?
Джосеркара-сенеб с усилием поднял руку и коснулся головы Рамери, на его светлеющем лице появилось подобие улыбки. Хуррит схватил руку учителя, прижал её к своему сердцу, и Ка-Мут, взглянувшая в лицо Рамери, не смогла удержать слёз.
— Рамери, сын мой, великий Осирис не отринет тебя, если твоё сердце не будет отягощено ни одним из сорока двух грехов, путь в его царство открыт любому праведнику, будь он сыном Черной или Красной земли. Истинный сын Кемет, сын не плоти, но моего сердца, разве не помнишь ты, о чём мы говорили в лагере при Мегиддо? Верь мне, мы увидимся там, и я прижму твою голову к моему сердцу, и когда настанет срок его величества, ты вновь будешь рядом с ним, будешь охранять его от всех опасностей, что подстерегают и в загробном царстве… Дети, дорогие мои, любимые, час мой близок! Прости меня, мой сын Инени, чьих первых шагов я не видел, ибо дни и ночи проводил в храме за изготовлением лекарств, прости меня, Раннаи, моя дочь, ибо по моей вине ты стала женой Хапу-сенеба, не любимого тобой и не заслуживающего твоей любви, прости меня, моя Ка-Мут, чью старость я не смог согреть, ибо всё время был далеко от тебя, в походном шатре его величества… — Джосеркара-сенеб остановился и докончил совсем тихо, так что шёпот казался уже последним вздохом, слетающим с бледных губ: — А теперь отпустите меня, не возносите больше молитв о моём исцелении, дайте мне спокойно уснуть. Да пребудет с вами благословение великого Амона, да не постигнет вас беда ни в вашем доме, ни в дороге, да будут сердца ваши уравновешены пером Маат! Идите с миром. Пусть со мной останется моя возлюбленная Ка-Мут…
Инени обхватил за плечи рыдающую Раннаи и вывел её из покоя, следом вышел Рамери, дверь за ними затворилась. Ка-Мут села на ложе рядом с Джосеркара-сенебом, обхватила его голову руками, прижала её к своей груди, и тогда он улыбнулся и закрыл глаза, а она заговорила — без слёз, тихо и нежно. Она говорила о том, как любила его все эти годы, как была счастлива с ним, как благодарила богов за ниспосланное ей счастье, и голос её был совсем молодым, свежим, сладостным. Вскоре Джосеркара-сенеб уснул с улыбкой на устах, а Ка-Мут продолжала говорить ему, уже мёртвому, о любви и жизни, о счастье встречи с ним, о радости встречи в будущем, где их уже не разлучит ни война, ни дела царского дома, ни священные церемонии. И когда спустя несколько часов Инени отворил дверь, он увидел мать, по-прежнему прижимающей к груди голову отца, по-прежнему произносящей тихие, нежные слова. В покое было уже совсем темно, в пробивающемся сквозь узкое окно лунном свете слабо светилось белое одеяние Ка-Мут. Лица обоих, и отца и матери, показались Инени счастливыми и внезапно помолодевшими, словно умерли они оба и проснулись вдвоём в ином, блаженном мире. И, осторожно выйдя из покоя, затворив за собой дверь, он сказал обернувшимся к нему Рамери и Раннаи: «Отец спит». Неожиданно Раннаи бросилась на грудь Рамери, обняла его и разрыдалась. Инени стоял смущённый, хотя и видел, что сам Рамери едва ли отдаёт себе отчёт в том, что знатная госпожа Раннаи плачет на его груди. Больше они ни о чём не говорили в ту ночь. Дом Джосеркара-сенеба наполнился горестными рыданиями слуг и рабов, и был послан вестник к верховному жрецу Амона Менхеперра-сенебу. Спустя всего несколько часов погребальная ладья отплыла на западный берег Хапи, и многие люди, не только родные и домашние Джосеркара-сенеба, проводили её цветами, брошенными в воды реки, и горестными криками, ибо много было тех, кто вдыхал сладостный аромат северного ветра лишь благодаря искусству благородного жреца. Раннаи онемела от слёз, Ка-Мут всё ещё оставалась одна в покое, где умер Джосеркара-сенеб, Инени и Рамери провожали тело старого жреца к Месту Правды. Им обоим казалось, что сердце исторгнуто у них из груди и брошено в тёмные воды Хапи, несущие на своих волнах печальные ветви и цветы. Но то, что переживал Рамери, не мог понять даже сын Джосеркара-сенеба, ибо дух, связующий людей крепче, чем плоть, при разлуке испытывает боль, превосходящую все страдания плоти и даже кровного родства. Не стало воздуха, не стало неба, оно обернулось чёрным камнем не потому, что наступил вечер, а потому, что угасло что-то в сердце Рамери, непоправимо, навсегда… Он смотрел в лицо учителя, такое спокойное и приветливое, на нём был отпечаток грусти и какого-то сожаления, словно он смотрел уже с высоты на тех, кого оставил на земле, жалел их и хотел утешить. Он, всегда стремившийся облегчить страдания людей, был вынужден причинить жестокую боль тем, кого любил, и кто знает — быть может, сердце, его честный свидетель и ходатай, всё ещё болело за них? Рамери был воином, знавшим смерть, он видел гибель матери, но никогда ещё его не охватывало чувство такой безнадёжности, ощущение сжимающегося холодного кольца. Память со свойственной ей жестокостью возвращала все обиды, которые он вольно или невольно причинил учителю, беспощадно перечисляла места, дни, слова — рабочий покой жреца, лагерь при Мегиддо, ночь в звёздах и отблесках костров, сомнения, попытка самоубийства, биение тёмной ханаанской крови и слова, которыми облекалось оно… Особенно мучительно было воспоминание о том, как однажды в детстве, ещё будучи свирепым врагом пленивших его, Рамери со злобой ударил Джосеркара-сенеба по искалеченной руке, удар пришёлся по обрубкам пальцев, и жрец вздрогнул от боли, но только тихо отвёл руку от маленького пленника и ничего не сказал. Теперь Рамери понимал, что самую страшную боль причиняет человеку не столько уход любимого существа, сколько зло, когда-то причинённое им самим, которое возвращает и удваивает беспощадная память. Если бы не существовало Раннаи, он, наверное, спокойно шагнул бы в эти тёмные, пронизанные отблесками погребальных факелов воды Хапи. Учитель когда-то рассказывал ему, что утопленников, лишённых погребения, извлекают из воды боги и хоронят на берегу подземного Хапи. Но Раннаи ждала его, и измученное сердце невольно тянулось к ней, он мечтал припасть лицом к её ладоням, к её коленям, рассказать о том зле, которое причинял учителю, говорить с ней, бесконечно любившей отца, разделить с нею ношу, одинаково тяжёлую для обоих. С Инени он почему-то говорить не мог, хотя, возвращаясь назад на пустой погребальной ладье, они сидели рядом, обнявшись, как братья. Дома их встретила Раннаи, лицо которой поблекло от слёз, в одежде, приспущенной с левого плеча. Они разделили скромную трапезу, мужчины ели молча, Раннаи ни к чему не притронулась. После трапезы Инени, на плечи которого легли теперь многочисленные заботы о доме и наследстве, удалился, Рамери и Раннаи остались вдвоём. Они сидели рядом, опустив головы, не глядя друг на друга, женщина тихо всхлипывала.


























