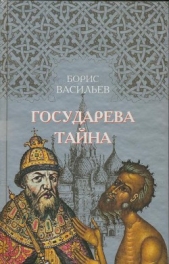Государева почта. Заутреня в Рапалло
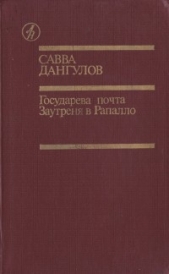
Государева почта. Заутреня в Рапалло читать книгу онлайн
В двух романах «Государева почта» и «Заутреня в Рапалло», составивших эту книгу, известный прозаик Савва Дангулов верен сквозной, ведущей теме своего творчества.
Он пишет о становлении советской дипломатии, о первых шагах, трудностях на ее пути и о значительных успехах на международной арене, о представителях ленинской миролюбивой политики Чичерине, Воровском, Красине, Литвинове.
С этими прекрасными интеллигентными людьми, истинными большевиками встретится читатель на страницах книги. И познакомится с героями, созданными авторским воображением, молодыми дипломатами Страны Советов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Моя новая встреча с Георгием Васильевичем произошла в Париже в самый канун войны, в семье русских политических, снимавших кирпичный флигелек в пригороде столицы. За скромным столом, уставленным дарами южного лета, собрались гости, все больше наши соотечественники. Внешним поводом к встрече послужила какая–то семейная дата, однако истинная причина была в ином — слишком явственны были признаки приближающейся войны. Чичерин сидел с Коллонтай, которая только что вернулась из поездки по Северной Европе, где в очередной раз выступала с лекциями. На Александре Михайловне было ярко–белое платье из легкой ткани, немыслимо модное, которое очень шло ей, — поспевая за жизнью, Александра Михайловна ухитрялась не отставать и от моды. Речь за столом шла об идее новой газеты, которую затевали русские политические, представлявшие разные точки зрения: там были Луначарский и Антонов — Овсеенко, Коллонтай и Урицкий, как были там Троцкий и Мартов. «Если Франция вступит в войну, газета не может быть антивоенной», — сказала Коллонтай. «Значит, позиция определена Францией, а не нами?» — поднял строгие глаза Чичерин. «Выходит, так», — произнесла Коллонтай. Как показали события, газета была создана, при этом в самый разгар войны, и для многих, кто имел к ней отношение, явилась мостом, который соединил их с теми, кто выступил против войны. К ним принадлежал и Чичерин — видно, дал знать себя и либкнехтовский антимилитаризм, Георгий Васильевич был последователен.
Из предреволюционных встреч с Георгием Васильевичем последней было наше свидание в Лондоне. Знаю не только по своему опыту: когда русские ненадолго приезжали в Лондон, их можно было найти в библиотеке Британского музея, То, что могла предложить библиотека, не могло предложить ни одно из иных европейских книжных и рукописных собраний. Поэтому, попав в конце шестнадцатого года в Лондон, я устремился в Британский музей. Помню, что просидел над подшивкой лондонской «Колл» до вечера и, проголодавшись, пошел в буфет. Бутерброд и стакан молока не потребовали много времени, и я готовился вернуться в читальный зал, когда увидел Георгия Васильевича. Видно, годы, прошедшие со времени нашей парижской встречи, были для него нелегкими: он похудел и, пожалуй, даже осунулся, только глаза были прежними — большие, мглисто–коричневые, они все с той же печалью смотрели вокруг. «Николай Андреевич, вы знакомы с Маклином? — спросил он и указал на своего собеседника, который с пристальным вниманием рассматривал меня; человек отнял ото рта массивную трубку, как мне показалось потухшую, поклонился. — Друг Маклин приглашает в Эдинбург, а потом готов провезти по стране, обещая показать Шотландию Бёрн–са… Заманчиво, но как выбраться из Лондона — время вон какое горячее!» Да, то был Маклин, знаменитый Маклин, воитель революции, борец за шотландскую свободу, которого только что вызволила из тюрьмы рабочая Великобритания. «Не теряю надежды и я пригласить друга Маклина в свободную Россию, да кстати показать ему Россию Лермонтова… «О, Лермонт, Лер–монт!» — воскликнул Маклин, на шотландский манер многократно повторив имя поэта и точно подчеркнув: Лермонтову не чужда Шотландия, совсем не чужда… «Маклин говорит, что нет города на островах, который бы так ожесточился против войны, как Глазго», — произнес Георгий Васильевич и вызвал восторг у Маклина. «О, Глазго, Глазго!» — возликовал шотландец. Мне показалось в этот раз, что антивоенные настроения завладели Чичериным не на шутку — своих здешних друзей он подбирал по этому признаку, Маклин был одним из них. Очевидно, влияние Маклина на Чичерина, как в свое время и влияние Либкнехта, было плодотворным, имел место и обратный процесс. У этой встречи был более чем красноречивый эпилог. Не без участия Чичерина шотландец стал другом русской свободы и доказал это делом, согласившись вскоре после Октября быть первым консулом советской России в Шотландии.
Вспоминаю Чичерина, и на память приходят его собеседники: Плеханов, Либкнехт, Коллонтай, Маклин…
Наверно, воздействие их на Георгия Васильевича было неодинаковым, но в моем сознании он рос от одной встречи к другой, укрепляясь в своей вере, которая с такой силой заявила о себе в последующие годы, когда он встал рядом с Лениным как его сподвижник и народный комиссар… Вот вопрос, который я не раз задавал себе: как складывались их отношения, как возникли, развивались с самого начала? Ленин, разумеется, знал о колебаниях Чичерина, но, так мне кажется, не относил его к прочим плехановцам, заметно обосабливая. Есть свидетельство убедительное, что дело обстояло именно так: «В примиренческом парижском «Нашем Слове» т. Орнатский, снискавший себе большую заслугу интернационалистской работой в Англии, высказался за немедленный раскол там», — писал Владимир Ильич. Орнатский — псевдоним Чичерина. Вспоминается и иное. Как явствует из дневников Джона Рида, относящихся к октябрьским дням, имя Чичерина было названо в Смольном едва ли не первым в качестве наркома по иностранным делам — можно допустить, что это имя назвал Ленин. Известно и то, как настойчивы были усилия правительства, требовавшего освобождения Чичерина из лондонской тюрьмы и возвращения его на родину, — эти усилия не могли быть предприняты без Ленина. Конечно, многое из того, что названо здесь, останется всего лишь предположением и может прозвучать не очень убедительно, если не взглянуть на это в свете последующих отношений Ленина и Чичерина, в основе которых было доверие и только доверие, а оно, как известно, возникает не вдруг.
Я пришел в иностранное ведомство вскоре после того, как столица перебралась в Москву, и тогда же увидел Чичерина, положение которого в наркомате было еще неясно. Он назывался помощником наркома, однако мог называться и по–иному — в нем уже видели министра иностранных дел революции. Но иногда можно было услышать и просто: «Молодой Чичерин». Почему «молодой»? Наверно, потому, что он был еще молод: в восемнадцатом ему шел всего лишь сорок пятый год и это, разумеется, была еще молодость. Сказав «молодой Чичерин», наркоминдельцы могли вложить в это свой смысл: «А наш министр молод, совсем молод» — и это была сущая правда. Но, быть может, определение «молодой Чичерин» предполагало, что был и иной Чичерин. Какой? Чичеринского родителя Василия Николаевича, служившего в иностранном ведомстве во время оно, не помнили даже те немногие аборигены, которые остались в ведомстве от старых времен, — он ведь покинул Дворцовую еще при Горчакове. Зато старший брат отца Борис Николаевич, московский городской голова и ректор университета, известный историк, государствовед и коновод российского земства, мог быть известен и не понаслышке, ибо был гражданином уже двадцатого века. Поэтому, когда говорят «молодой Чичерин», незримо соотносят его с Чичериным старым, имея в виду, конечно, Бориса Николаевича.
Наркоминдел не без любопытства наблюдал за Чичериным. На тарасовском особняке остановил выбор Георгий Васильевич. Большие холодные залы особняка, который является точной копией виллы в Пизе или Болонье, не очень–то просто было приспособить под служебные помещения иностранного ведомства, но Чичерину помещение нравилось. Хотя в облике особняка угадывалось Высокое Возрождение, он странным образом был отмечен и чертами нового века, что могло импонировать Георгию Васильевичу. Но тарасовский дворец, расцвеченный фресками, имеющими весьма отдаленное отношение к российской действительности, был хорош для глаза, а не для жизни.
Точно протестуя против этого великолепия, Чичерин избрал для своего житья–бытья комнатку едва ли не под стрехами, в которой по заведенному в такого рода особняках обычаю прежде жила прислуга. Попав однажды с текстом срочной депеши в комнату под стрехами, я был немало смущен: стояли койка, застланная байковым одеялом, и рогатая вешалка, на которой висело чичеринское деми с плюшевым воротником, знаменитое чичеринское деми еще по лондонской поре, исправно служившее ему там в течение всех четырех времен года. Были еще секретер, украшенный медными пластинами, тронутыми знатной зеленью, и настольная лампа на медной подставке, из которой торчала розовая, как сосок, кнопка. Как ни страден был рабочий день, к полуночи тарасовски! дворец заметно пустел — в доме оставался разве только Чичерин,